ИЛЬИН А. Н.
СУБЪЕКТ В МАССОВОЙ
КУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ КИТЧ-КУЛЬТУРЫ)
Омск – 2010
УДК 130.2
ББК 87.66
И46
Научный редактор:
доктор философских наук, профессор Д. М. Федяев
Рецензенты:
доктор философских наук, профессор П. Л. Зайцев
доктор философских наук, профессор М. Д. Купарашвили
Ильин А.Н.
И46 Субъект в массовой культуре современного общества потребления (на материале китч-культуры): Монография. – Омск : «Амфора», 2010. – 376 с.
ISBN 978-5-904947-15-6
Исследование субъекта, проведенное в настоящей работе, условно можно
разделить на три части. Первая часть вовлекает читателя в историю философии с целью изучить динамику становления идей о субъекте в процессе исторической смены научных традиций. Вторая часть представляет собой анализ широкого поля определений субъекта и субъектности, на основе которого фиксируется антропологическая сущность субъекта и его основные атрибутивные характеристики. В третьей дается краткое описание трех форм понимания субъекта – противопоставление, предикат, статика, - из которых только последняя отражает антропологическое содержание субъекта.
Массовая культура в монографии представлена не в виде гомогенного образования, а как иерархическая система, состоящая из трех уровней, каждый из которых отличается определенным характером влияния на субъект. Рассматривая китч как низший уровень массовой культуры, автор подробно раскрывает его суть, обращаясь ко многим феноменам современной потребительской культуры - мода, реклама, мифологичность масс-медиа и т.д.
Монография адресуется философам, психологам, культурологам и всем, кто
интересуется проблематикой субъекта, массовой культуры и общества потребления.
E-mail автора: ilin1983@yandex.ru
© Ильин А.Н., текст, 2010
Оглавление
Введение .................................................................... ............................ 5
Глава 1
Категория субъекта в структуре гуманитарного знания
1. Генезис идеи субъекта в философской традиции
и парадигмальной науке модерна ....................................................... 7
2. Поликонтекстуальность (предикативность)
категории "субъект" .......................................................................... 33
3. Основные формы понимания категории "субъект" ........................... 42
4. Субъект в пространстве философии постмодернизма ....................... 49
5. От дихотомии субъекта модернизма и постмодернизма
к универсализму субъектности ......................................................... 89
Глава 2
Феномен массовой культуры и масс
1. Проблема понятийной репрезентации массовой культуры ............... 97
2. Феномен бессубъектности массы как потребителя китч-культуры .. 132
3. Облик человека массы ...................................................................... 155
Глава 3
Специфика субъектности в современном обществе потребления
1. Фиктивность и знаковость общества потребления............................ 167
2. Проблема адаптации субъекта к массовой культуре ........................ 193
3. Функциональность/дисфункциональность массовой культуры
и феномен отчуждения внутри современного культурного
пространства .................................................................................. 219
Глава 4
Влияние средств массовой коммуникации на субъектность
1. Широкое поле массмедиа китча ....................................................... 235
2. Мифотворчество дискурса новостей
и политическая ангажированность масс-медиа ............................... 255
3. Специфика влияния рекламы на субъекта (китч-аспект) .................. 286
4. Характер влияния моды на субъектность (китч-аспект) ................... 305
Глава 5
Общая характеристика состояния субъекта
на различных уровнях массовой культуры и проблема
внутренней дифференциации массовой культуры
1. Проявление субъектности на различных уровнях
массовой культуры .......................................................................... 329
2. Проблема семантических различий
между уровнями массовой культуры ............................................... 348
3. Массовая культура и субкультуры:
соотношение общего и частного ...................................................... 354
Заключение .................................................................... ..................... 373
Введение
В настоящее время продолжается процесс изменения отношений между индивидом, обществом и государством. Намечаются проблемы, связанные либо с тотальным конформизмом, либо, наоборот, с предельным индивидуализмом. Во многих научных отраслях актуализируется проблема наличия или отсутствия внутренней позиции, символизирующей присущее данной личности мнение и мировоззрение; ставится вопрос «а есть ли вообще эта позиция у современного человека, или он представляет собой безликое существо, лишенное права на автономию, на наличие самости?». Особого интереса заслуживает способность человека к самореализации в рамках культурных тенденций. Общий уровень культуры оценивается многими исследователями как предельно низкий; наблюдается деградация культурной сферы, что прямым образом связано с проблемой ценностей и идеалов современного человека. Для современного постиндустриального мира характерно стремительное развитие информационных технологий и средств массовой коммуникации, заполонивших все культурно-социальное пространство. Создаются глобальные информационные сети, разрабатываются и внедряются в общественную жизнь новейшие технологии виртуальной реальности, серьезное влияние на субъекта оказывает многообразие сообщений рекламного характера. Человек вовлечен в поток массовой коммуникации, от которого не может отделиться. И в этом потоке с его «текучим» характером ценностей у человека появляется состояние растерянности в знаковой среде и наблюдается кризис идентичности: исчезает человеческая самостоятельность, инаковость и осознанный характер жизнедеятельности. В эпоху, отличающуюся взрывным характером развития информационных технологий и средств массовой информации значимость субъекта как отдельного лица мельчает.
Процесс поверхностного, утилитарно-потребительского восприятия реальности, в котором отсутствуют семантическая глубина и нравственное переживание иного себе, актуализируется под воздействием массовой культуры, которая в своей низшей форме – китче – проникает во все сферы жизни и деятельности человека через множество путей информационного пространства. Таким образом, становится актуальной проблема взаимодействия человека и массовой культуры. Кроме того, ситуация экономического кризиса, характерная для сегодняшнего дня, оказывает непосредственное влияние на состояние культуры, а вместе с тем и на субъекта, психические качества которого редуцируются культурой китча.
Сложность и противоречивость массовой культуры, разновекторный характер ее влияния на субъекта обусловили необходимость теоретического осмысления феномена представленности субъекта внутри массовой культуры на новом критическом уровне с учетом предыдущего опыта изучения субъекта и массовой культуры в философской и общегуманитарной научной литературе.
Глава 1. Категория субъекта в структуре гуманитарного знания
1. Генезис идеи субъекта в философской традиции и парадигмальной науке модерна
Категориям «субъект» и «субъектность» в философской науке всегда уделялось большое внимание. И сейчас проблема субъекта – одна из основных проблем в пространстве гуманитарных исследований; некоторые ученые[1] признают ее как центральную научную проблему. Это связано с тем, что с помощью данной категории возникает возможность раскрыть целостность основных качеств человека, которые формируются в процессе его активной деятельности, происходящей в системе отношений с другими людьми и с культурой.
Понятие субъекта междисциплинарно, о чем говорит его широкое использование в разных науках – в философии, в логике, в педагогике, в психологии. И часто концепции из разных дисциплин, трактующие данное понятие, не только взаимно дополняют друг друга, но и противоречат одна другой, придавая категории субъекта разные значения, наделяя ее различными определениями и смыслами. Изучение данной категории в контексте ее взаимодействия с массовой культурой является предметом особенного интереса. В настоящем параграфе мы рассмотрим поле определений субъектности, а также выделим ее атрибутивные характеристики. Кроме того, представляется необходимым обратиться к истории проблемы субъекта в философской науке – ее теоретическому становлению и концептуальной трансформации, происходящей в процессе появления новых философских традиций и направлений. Путем обращения к философской традиции мы сможем исследовать историю вопроса о субъекте, выделить ключевые позиции, без чего невозможно дальнейшее продвижение знания о субъекте.
В европейской философской традиции проблема субъекта представлена в гносеологическом ключе, так как субъектность связывалась с познанием. Но до оформления европейской философской традиции существовала определенная досубъектная эпоха, которая не придавала значения специфичности внутреннего содержания человеческого бытия – его мышления и деятельности. В древнекитайской – преимущественно даосистской – традиции субъект, носитель индивидуального мировоззрения и взглядов не считался просветленным, просвещенным, доблестным и главенствующим[2].
В античной философии человек как микрокосм уподоблялся космосу (был им в миниатюре), благодаря чему он не мог быть отличным от мира субъектом. Древняя философия, ставя проблему космоса на первое место, не считала значимым изучения микрокосма; в пределах горизонта познания существовало лишь внешнее, но внутреннее отсутствовало. Принимался во внимание человек и его внутренний мир, но последний не обладал своей спецификой. Человеку как субъекту ничего не противостоит, поэтому нет и субъекта. Его взгляд не встречает ничего, что было бы отлично от него, противостояло ему, как современному человеку – мир или культура – следовательно обособление, отпадение субъекта от мира не происходило. Античный период, несмотря на отсутствие интереса к проблемам отличного от объективной реальности внутреннего мира человека, следует понимать как закономерный этап развития философской мысли, который предшествовал дальнейшему обращению научного интереса к области внутреннего, к сфере человеческого естества.
Во времена средневековья у человека появляется внутренний мир, отличный от внешней действительности и даже противопоставляемый ей. Но субъектом является Бог, а человек занимает срединное положение между природой и Богом; он выделен из природы, но претендовать на статус субъекта не может, так как его позиция определена в божественном замысле. Относительное право на субъектность, то есть на автономность, человек получает вместе с грехом: она стала результатом искажения божественного замысла, и поэтому для философов средневековья высшей ценностью является отказ от всего личного, синонимичного греховному. Интерпретируя библейский миф о грехопадении, можно сказать, что христианская религия выступала против познания человеком окружающего мира и самого себя. Считалось, что истину нужно не искать, а сохранять. А проблема познания – точнее, познающего субъекта – станет основой для дальнейшей – нововременной – философской мысли.
В сущности, времена античности и средневековья можно объединить в эпоху, для которой уместно название «премодерн». В первый период этой эпохи (древность) акцент ставился на космосе, а во вторую (средние века) внимание уделялось богу. Но ни в тот, ни другой периоды субъекту как человеческому существу не находилось места.
В эпоху Нового Времени человек остается противопоставленным природе, но идея бога теряет актуальность, и активность бога как субъекта переходит на активность человека как единственно возможного субъекта. Человек остается наедине с природой, которая является объектом познания, и человек становится познающим субъектом.
Разрыв связи человека с Богом и создание рационального субъекта – философская новация Рене Декарта; именно после Декарта в новоевропейскую философию приходит господство субъекта, которым именуется человеческое «Я»[3]. Декартовская субъектность может быть понята через мыслительную деятельность, и она становится равнозначна самосознанию. Cogito (я мыслю) – основание научного познания, а субъективная достоверность значима для любого познания. По Декарту, субъектность – это одновременно мыслящая деятельность и реально сущее, присутствующее в мире; вся сущность субстанции Я состоит в мышлении[4]. Человек обладает произвольной способностью в своей фантазии создавать вещи и верить в них как в действительные, но реальные объекты существуют независимо от субъекта, так как не созданы им; то есть декартовский субъект – это условие появления недействительных объектов[5]. Картезианское понимание субъекта отлично от современного прежде всего тем, что подходит к данной проблеме с позиции одного лишь мышления, не учитывая других качеств человека. Но в дальнейшие периоды философской мысли это понимание постепенно изменялось.
Очень важный этап в развитии научной мысли ознаменовался появлением немецкой классической философии, которая обратилась к проблемам как познания субъектом окружающего мира, так и познания им самого себя. Но поскольку невозможно представить немецкую классическую философию как единое непротиворечивое целое, следует проанализировать идеи ее представителей в отдельности.
И. Кант, в отличие от Декарта, был убежден в активности субъекта: «если открытие Декарта состояло в том, что субъект есть величина, которая не может быть вынесена за скобки познания, то открытие Канта – активность познающего субъекта»[6]. У Канта субъект познает и действует, он производит изменения в мире в соответствии со своей духовной сущностью. Кант не принимает тезис о «чистом» мышлении, а пишет об эмпирическом (опытном) познании мира, в активности которого и заключена субъектность; внутренний опыт может быть возможен только при помощи внешнего опыта[7]. По Канту, единство опыта предполагает единство сознания, а необходимое условие объективности опыта – самосознание Я как себе тождественного в форме утверждения «Я мыслю», которое сопровождает течение опыта. Теперь, благодаря Канту, к мышлению как первоначальному качеству субъекта добавилась активность. Субъект не просто познает объект, а его создает, что говорит о его созидательной активности.
Но возникает вопрос: как может субъект мыслить самого себя, то есть становиться своим собственным предметом? И. Г. Фихте отмечал: для того, чтобы познать свое сознание, субъект должен превратить его в предмет нового сознания, а значит, к самосознанию прийти невозможно, так как такая процедура уходит в бесконечность. Стоит заметить, что И. Фихте утверждал самость деятельным началом, а не декартовской метафизической субстанцией, считая категорию «мыслю» внутри картезианского «cogito, ergo sum» излишней для доказательства существования субъекта, так как мышление не составляет сущности бытия, и ввел понятие Абсолютного субъекта – полагающего самого себя как сущее, как самополагающее. Он толкует себя в деятельности полагания, при этом зная, что он себя полагает, и, зная это, полагает себя как данное знание; Я здесь – одновременно и созерцание и понятие (Я видит себя и видит сам способ видения себя), вершитель действия и его продукт, субъект самосознания и его объект, полагающее и полагаемое. Субъект, по Фихте, может познавать объект (окружающую реальность) только с помощью совершаемой через силу воображения созерцательной деятельности (которой противопоставляется страдательная деятельность)[8]. Но, согласно, субъективному идеализму И. Фихте, кроме субъекта нет ничего: Не-Я – это сфера действия субъекта (Я), не имеющая специфики в себе. Однако Не-Я все же выделяется Фихте, выделяется как объект, противопоставленный Я, то есть субъекту, и именно с появлением этого внешнего объекта само Я становится полноценным объектом для самополагания и лишь через Не-Я Я становится нечто, но оно уже не является Абсолютным субъектом, а выступает ограниченным внешним объектом эмпирическим субъектом. Если чистая деятельность Абсолютного Я не предполагает существования объекта, а возвращается в себя, то эмпирическое Я опосредовано Не-Я, и эта опосредованность взаимна, что выражается в положении: «без субъекта нет объекта, без объекта нет субъекта». Я как чистое сознание объективируется в процессе того, как делается предметом собственной самопознающей деятельности. Но, по замечанию С.Н. Ставцева, различив акт сознания и созерцательной деятельности, Фихте все-таки не смог зафиксировать их единство в форме рефлексии[9]. Согласно В.А. Лекторскому, Фихте «не смог произвести априорную дедукцию сущностных зависимостей всякого знания из актов полагания и противополагания чистого Я»[10] и его центральное утверждение о том, что факт самополагания чистого Я – «Я есмь» - лежит в основании любого знания, остается бездоказательным, а принятие Абсолютного Я как конституирующего знание и предметную реальность центра ведет к тупику идеалистического субъективизма. Действительно, принятие идеи Абсолютного Я как гносеологического абсолюта привело бы к излишнему мистифицированию и даже наделению такового субъекта божественными свойствами.
Заметно, что Фихте противопоставляет свое понимание субъекта как пониманию Декарта, так и пониманию Канта. Он не согласен с первым в отношении главенства мышления как основного качества субъекта, а со вторым – в отношении деятельной активности. По Фихте, сущность субъекта заключена в деятельности, и становление субъекта неотделимо от преобразования предмета, но философ все-таки рассматривал деятельность субъекта в качестве деятельности сознания. Мы же предлагаем более расширенное понятие деятельности, которая не сводится лишь к полаганию или сознанию (умозрительности) и только сквозь призму которой можно охарактеризовать субъекта (см. ниже).
Кант и Фихте предложили особую трактовку субъекта, возникшую в особой социокультурной ситуации и не только получившую широкое распространение, но и долгое время считавшуюся единственно возможной. Это связано с тем, что в то время в науке не была парадигмальной идея о невозможности чистого знания, не искаженного субъективными представлениями, и принцип экспериментальной проверяемости не наделялся чертами фундаментальности.
Марксизм, обозначив главной характеристикой человека общественные отношения, подчиняет субъекта обществу как более высшей сущности. Субъект обретает зависимость, и зависимость именно от общества. Субъект активно преобразует социальную действительность, и его активность с познания природы переходит на политическую сферу. Народная масса рассматривается не в негативном ключе (как бессубъектная толпа), а ей придается самое позитивное значение, она наделяется активным деятельным началом. Именно народные массы способны произвести революцию и установить диктатуру пролетариата.
Вообще, в марксизме наибольший интерес уделялся проблеме скорее коллективного субъекта, а не индивидуального, в чем и заключается новый ракурс изучения проблемы субъекта. Индивидуальный субъект неотделим от коллективного и не может развиваться, будучи отчужденным. Это положение можно считать истинным, так как личность и субъект могут развиваться только находясь внутри общества и принимая социальные нормы и правила. Но вместе с тем излишняя абсолютизация коллективного характера субъектной деятельности может привести к нивелированию единичного субъекта, в чем и заключена основа тоталитаризма. В марксистской концепции субъектом выступает общество трудящихся (труд, по Марксу, - это процесс, совершающийся между человеком и природой, это отношение активного воздействия общества на природу для присвоения предметов природы путем их целенаправленного преобразования), а противопоставленным ему объектом – природа, на которую направлена познавательная и практическая деятельность субъекта[11]. Или же – в более узком марксовом понимании – субъектом является пролетарий, который противопоставляет себя буржуазии, то есть здесь связка «субъект-объект» находит свое воплощение не в природно-человеческом бытии, а в классовой борьбе.
Конечно, существовали и другие трактовки субъекта, но в целом доминирующими были именно эти. Отечественные представители марксизма (В.А. Лекторский, К.Н. Любутин и др.) изучали субъекта сквозь призму его противопоставленности объекту, рассматривая его как деятельное познающее существо, но не придавая особого значения его антропологическим (внутренним) характеристикам. В основном ученые следовали принципу «нет субъекта без объекта и нет объекта без субъекта», хотя, опять же, в односторонности такого гносеологизма нельзя упрекать всех авторов, создавая генерализацию, которая во многом бы отражала характер идей в отношении субъекта, но и во многом недооценивала бы другие воззрения, в соответствии с которыми субъекту придавалось иное значение: например, он синонимировался с обществом, классом или деятельным и познающим лицом. Однако в целом советские авторы все-таки не наметили тенденции изучения субъекта в отрыве от понятия объекта, равно как проблематика субъекта не ставилась в антропологическом русле.
Идущий процесс автономизации субъекта, постановки его в привилегированное положение по отношению к природе, не мог не вызвать негативной реакции, которая не заставила себя ждать в философии жизни, особенно у Артура Шопенгауэра. Шопенгауэр предложил вернуться к досубъектной эпохе, и это сформировало суть традиции декаданса в философии и литературе. Декаданс – не просто реакция на рационализм в философии и реализм в литературе, а на раздутого до размеров мира субъекта.
Экзистенциалисты видят в субъекте не существо познающее (когнитивный аспект), а существо живущее. Субъект, по их мнению, - автор своей жизни, смысл его существования замкнут на нем самом, в то время как мир – это скверна[12]. Согласно как философии жизни, так и экзистенциализму, субъектность необъективируема и непознаваема, а опыт субъекта представляется в своей неповторимости и уникальности, впрочем, как и сам субъект[13]. Но не каждый человек, согласно экзистенциализму, может называться подлинным субъектом, так как настоящее существование в мире присуще не всем. Основными категориями экзистенциализма выступают свобода и ответственность, существование которых представляется взаимозависимым. Субъект свободен в выборе: вообще, экзистенциальный субъект – субъект выбора. Но свобода обрекает субъекта на одиночество, и многие люди, по мнению Э. Фромма[14], боятся одиночества; в этом страхе они отрекаются от свободы нести ответственность и тогда, становясь полностью конформными, обращаются в бессубъектное существование – философское и метафизическое умирание, уничтожение себя как субъекта, способного выбирать и принимать решения, растворение себя в какой-то общности. Свобода становится тяжким бременем. Бессубъектность – это состояние конформизма, необходимое для тоталитарных режимов. Человек, лишенный субъектности, не может выбирать, а предоставляет это право другому (религии, государству), не может отстаивать свою позицию, свое мировоззрение, он не способен жить, если под жизнью понимать полноценное существование, вместо реализации своих ценностей и желаний он стремится жить в соответствии с ожиданиями других. Это самонивелирование происходит также в страхе перед смертью: когда нет субъекта, нет и смерти – некому умирать.
М. Хайдеггер ставил под сомнение фихтевского субъекта, задавая вопрос: если трансцендентальная субъектность сама себя полагает (конституирует), то как она может иметь феноменологически достоверное знание об этом? Для Хайдеггера бытие не ограничено рамками полагания, оно отличается многосложностью своего экзистенциального устройства. «Забота» - условие единства экзистенциальных определений Dasein, целостности бытия в мире, занимает место классического трансцендентального субъекта. «Забота» осуществляет этот синтез не единичным логическим актом, как трансцендентальный субъект, а во времени, являясь временным опытом: ориентация в будущее дает субъекту подлинное существование, а ограниченность настоящим приводит к заслонению миром повседневности конечности бытия. Такая субъектность (Dasein) не просто существует временным образом, как «забота», но и знает о своем существовании. Собственно, Хайдеггер обосновал субъектность из трансцендентального опыта времени, где «абсолютная временность» выступает «топосом» субъектности[15]. Забота же, по Хайдеггеру, - это бытие-в-мире, это творимое субъектом благо. Как мы считаем, данный термин отличается широтой понимания. С одной стороны, можно было бы увидеть в нем синоним слова «активность» в целом. Однако активность – настолько широкое понятие, что может включать в себя так называемую бесполезную активность (суету), которая, кроме указывания на неподлинность человеческого существования (в экзистенциальном смысле), не представляет из себя никакой благости, никакой полезности. Забота же – это благо; а потому, используя термин «активность», ее можно охарактеризовать как целенаправленную активность, которая «смотрит» вперед, в будущее, и приносит определенную полезность, результативность и смысл.
Карл Ясперс видел в коммуникации условие бытия субъекта, через которую тот находит свою индивидуальность. Человек обретает свою сущность и свободу в пограничных условиях: борьба, страдание, угроза смерти. Жан-Поль Сартр смотрит на проблему субъекта через призму стандартизации массового общества, общественно-государственного гнета и подчинения человека. Этот человек, отчужденный от самого себя и обреченный на неподлинное существование, испытывает тошноту. У человека нет «алиби», он полностью в ответе за самого себя, поскольку он не чем-то задан, а осужден на свободу, - он сам строит себя посредством своей субъектности, создавая свой «проект».
В общем, экзистенциализм обращает внимание прежде всего на субъекта живущего с его переживаниями, чувствами и страданиями, а основным проявлением субъектности выступает жизнь, существование, в которой человек реализует свою сущность. Причинами появления экзистенциализма послужили серьезные опасности, перед лицом которых стояло человечество (потрясения, войны, революции), вследствие чего у человека обострилось чувство конечности, безысходности, бессмысленности существования. Также пошатнулась вера в научную рациональность, в то, что наука способна сделать человека счастливым. И выражением субъектности, подлинности бытия в экзистенциализме можно назвать не склонность к эскапизму по отношению к ситуациям, ставящим человека на границу между жизнью и смертью, и не рабское преклонение, а способность посмотреть им в глаза и найти в себе силы для реализации своего духовного «Я».
Мы видим, что в процессе развития философской мысли идеи субъекта также развивались. Но такое развитие нельзя назвать кумулятивным, так как многие философы не просто добавляли к уже имеющимся знаниям о субъекте новые идеи, но и пересматривали (а порой и уничтожали) истины, провозглашенные их предшественниками. Например философия в разные эпохи проявляла интерес не только к наполнению субъекта значениями, включающими разумность, активность и т.п., но и к идее бессубъектного бытия. Критика «бедственного» положения субъекта на современном этапе должна учитывать тот факт, что, используясь в качестве философской категории, субъект никогда не имел собственной парадигмы. Да и вообще вся философская наука как таковая на протяжении всего своего существования обнаруживала отсутствие линейного прогресса, так как в любую эпоху существовали мыслители совершенно различных методологических и мировоззренческих позиций.
Но вместе с тем субъект был чуть ли не центральной категорией, для которой почти каждый философ – начиная с эпохи Нового Времени – отводил особое место в своей системе. «История философии — история различий в предметах спора между философами»[16], - и одним из этих предметов являлся субъект.
Таким образом, субъект в философии постоянно трансформировался и секуляризировался. Это указывает нам на определенную «подвижность» понятия и его содержания, которая демонстрирует себя в процессе смены идей о субъекте и его сущности. Вместе с тем, несмотря на множество интерпретаций субъекта, в основном субъектно-ориентированный дискурс философской мысли придерживался сугубо гносеологической линии в рассмотрении интересующей его категории, изучая субъекта сквозь призму познания объекта, противопоставляя его объекту. Антропологическими характеристиками субъект, по большому счету, не наделялся.
Рассмотрев историю становления понятия «субъект», мы обратимся к раскрытию его внутреннего содержания – тех качеств, которые составляют субъектность как атрибутивную (антропологическую) характеристику субъекта. Для того, чтобы раскрыть сущность категорий «субъект» и «субъектность» и обозначить их характеристики, необходимо обратиться к психологическому и педагогическому наследию, содержащему обширный материал по этой теме. Психологическое изучение субъекта в отечественной науке было начато в работах таких ученых, как С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Д.Н. Узнадзе. А.В. Брушлинский и К.А. Абульханова-Славская образуют следующий этап изучения субъекта, основываясь на положениях С.Л. Рубинштейна. Обобщая идеи многих авторов (А.В. Брушлинский, В.В. Знаков, Е.А. Сергиенко и др.), можно сказать, что субъектом является человек на высшем уровне своей активности, деятельности, целостности (системности), автономности и т.д. Стоит заметить, что отечественные психологи рассматривают субъекта через призму понятия «самосовершенствование», ассоциируя субъектное развитие именно с высшим уровнем человеческого развития. Но, как замечает К.А. Абульханова, субъект не является эталоном, высшей точкой развития, а постоянно решает задачу своего совершенствования[17]. Другими словами, субъекта отличает то, что он выступает саморазвивающейся системой, находящейся в процессе постоянного становления. Он – не вершина совершенства, не акмеологический предел, выше которого подняться невозможно, а движение к нему. Можно сказать, что субъект – это нечто, не равное самому себе, а воплощение постоянного движения и становления, снятие установленных границ и полагание новых. Это всегда не сбывшееся существо.
«Субъект – причина самого себя, самодетерминируемое сущее и источник своей активности»[18]. Вообще, многие ученые называют субъекта источником активности (И.А. Вишняков, Е.А. Сергиенко, Г.А. Цукерман и др.). Но для того чтобы понять смысл определений субъекта, необходимо раскрыть сущность термина «активность», поскольку именно с этим термином принято связывать существование и функционирование категории «субъект». Активность как основание проявления субъектности выделяют такие исследователи, как А.А. Бодалев, А.А. Брегадзе, Б.А. Вяткин, М.В. Ермолаева, К.Н. Любутин, В. А. Машин, Д.В. Пивоваров, Е.А. Сергиенко и др. Вообще, взаимосвязь субъекта и активности прослеживается практически во всех исследованиях, посвященных теме субъекта, поэтому список авторов, указывающих на таковую взаимосвязь, можно продолжать очень долго. Однако – в чем наблюдается уже не сходство, а различие в исследовательских взглядах – дефиниции понятий «активность» и «субъект» каждый автор предлагает свои.
В научной литературе мы находим множество определений активности. В областях научного знания, посвященных проблеме человека, активность фигурирует одной из основных категорий. В.Т. Кудрявцев называет предметную активность (и деятельность) субъекта основанием развития целостности психических явлений[19]. Активность – это особое качество взаимодействия субъекта с реальностью (с объектом). Это способ личностного самовыражения и самоосуществления, при которых личность достигает своей целостности, самостоятельности и становится саморазвивающимся субъектом[20]. «Это стремление субъекта выйти за собственные пределы, расширить сферу деятельности, действовать за границами требований ситуации и ролевых предписаний»[21]. Активность – это выражение внутренней противоречивости живого организма, направленное на создание и преодоление напряжения, на постоянное развитие[22]. А.М. Трещев называет активность интегративным свойством личности, а субъекта - носителем активного взаимодействия человека с миром[23]. Активность является источником развития деятельности, ее количественной и качественной мерой; активность более широкое понятие, а деятельность – ее форма[24]. Активность в целом – это процесс становления, осуществления и видоизменения деятельности[25]. В общегуманитарной литературе выделяется очень много дефиниций понятия «активность» и не представляется возможным перечислить все определения. Мы привели лишь некоторые из них. Основываясь на приведенных определениях, назовем активность основой развития и проявления субъектности.
Как принято считать, именно деятельность как психологическая категория определяет существование понятия «субъект» и придает ему многоконтекстуальный характер. Кроме того, она «подчеркивает связь самого субъекта с предметами окружающей его действительности», и именно в деятельности, а не в принудительном обучении, происходит развитие субъекта[26]. Только в процессе овладения человеком деятельностью как специфичным видом активности возникает и развивается субъектность. В самом понятии субъекта ставится акцент на его активном деятельностном начале, при реализации которого он осуществляет свои отношения с действительностью. Представители субъектно-деятельностного подхода называли деятельность основой саморазвития субъекта[27], а активность – движением деятельности[28]. Деятельность – это некий посредник между субъектом и объектом и воплощение деятельной способности субъекта[29]. Это форма реализации отношения к другим людям[30]. Это внутренне мотивированная форма активности, «соразмеряемая с сопутствующими ей условиями и корректируемая факторами оценки»[31]. Это «целенаправленная активность человека, побуждаемая теми или другими мотивами и осуществляемая характерными для этой деятельности способами»[32], в которой проявляются качества субъекта, а не личности – носительницы отношений. Целенаправленность как основную характеристику деятельности выделяют многие ученые (Балл. Г.А., Бодалев А.А., Вяткин Б.А., Давыдов В.В., Осницкий А.К., Сергиенко Е.А.). Одним словом, деятельность выступает целенаправленным и внутренне мотивированным проявлением активности, формой реализации отношений.
Причем данное понятие (наряду с активностью) используется как в гносеологии, так и в онтологии при изучении категории «субъект», что является своеобразной точкой соприкосновения обеих областей. Так, исходя из гносеологической позиции, которую отстаивают преимущественно философы, в процессе предметной деятельности субъект познает и преобразует объект, и деятельность здесь выступает необходимым условием не только познания и преобразования объекта, но также противопоставления субъекта объекту. Обращаясь к онтологической позиции, представленной в первую очередь психологами, мы можем постулировать идею о том, что деятельность выступает обязательным условием для формирования внутренних атрибутивных качеств субъекта, а вместе с ними и такого образования, как субъектность.
Человек, по мнению Б.Г. Ананьева, это субъект деятельности, посредством которой происходит изменение социальной среды. А деятельность, в свою очередь, рассматривается в качестве фактора человеческого развития. Ссылаясь на исследования А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьев заключает: «психика формируется в деятельности и в значительной степени является ее продуктом»[33]. Человек, осуществляя деятельность по усвоению общественного опыта, накопленных человечеством знаний, превращает общественное в индивидуальное, тем самым способствуя возникновению внутреннего из внешнего. Этот процесс можно охарактеризовать двумя терминами – социализация и интериоризация, отождествление которых Б.Г. Ананьев не подвергает никакой критике. По С.Л. Рубинштейну, деятельность выступает как условие формирования и развития субъекта. Деятельность – это совокупность действий, которые сознательно регулируются личностью[34]. А.М. Трещев определяет деятельность как «единство целенаправленной и целеполагающей активности человека, реализующей и развивающей систему его отношений к миру»[35]. Б.А. Вяткин, вслед за В.С. Мерлином, считает, что деятельность формирует индивидуальность, что является более высоким уровнем развития, чем субъектность[36]. Таким образом, Вяткин придает деятельности системообразующую роль в структуре интегральной индивидуальности, а значит, отводит ей более значимое место, чем другие авторы. По его мнению, в деятельности проявляется много-многозначность связей между свойствами субъекта, создаются новые связи между свойствами индивидуальности.
Обобщая все вышеприведенные определения, можно охарактеризовать деятельность как сознательно регулируемую, целенаправленную активность, как форму реализации отношений, в результате осуществления которой происходит формирование субъекта и преобразование им окружающей среды. Если активность выступает основой для развития и проявления субъектности вообще (в потенциальном смысле), то благодаря деятельности как частного элемента активности субъект развивается в актуальном смысле. Если активность абстрактна и охватывает практически всю жизнь субъекта во временном смысле, то деятельность более конкретна и совершается в наличном бытии.
Если рассматривать субъекта как носителя каких-то определенных человеческих качеств и потенций, невозможно оставить без внимания субъектность как метаатрибутивную (или надатрибутивную) характеристику субъекта, «вбирающую» внутрь себя все качества, присущие субъекту. Субъектность – это качество, производное от субъекта, способ реализации человеком своей человеческой сущности.
И.В. Вачков дает следующее определение субъектности: «это системное человеческое качество, в котором реализуется важнейшая интенция человека как субъекта – стремление к проявлению и реализации себя как в пространстве собственного внутреннего мира, так и в пространстве окружающего мира; при этом субъектность наиболее ясно фиксируется именно на границе этих двух миров, являющейся очень подвижной и отражающей противоречивое, динамичное и взаимодополняющее единство внешнего и внутреннего»; если отсутствует субъектность, то отсутствует и подлинный человек[37]. То есть, субъектность выступает подлинностью человека как субъекта.
Ряд авторов (Анцыферова Л.И., Ольховая, Т.А., Осницкий А.К., Трещев А.М., Щукина Н.В.) связывают складывающуюся внутреннюю позицию с проявлением субъектности и высказывают убеждение в том, что сформированная субъектность позволяет личности занять субъектную позицию к своей психологической данности. Эта взаимосвязь представляется нам особо важной, так как внутренняя позиция как устойчивость мировоззрения действительно не может сформироваться без субъектности. Скорее даже, процесс их формирования можно определить одновременно и как взаимозависимый и как параллельный – одно без другого существовать не может. Личность, занимающая ту или иную позицию, характеризуется мировоззренческой устойчивостью и единством внутреннего содержания. Позиция может быть идейная, нравственная, профессиональная, семейно-бытовая, политическая. Однако устойчивость индивидуального мировоззрения характеризуется содержательной непротиворечивостью этих разных – присущих одному и тому же человеку – позиций, благодаря которой их можно объединить в единый антропологический концепт «субъектная позиция».
Близким концептом выступает так называемам гражданская позиция, которая выражается не только в определенном отношении к жизни, к себе и к окружающим людям, но и в активной реализации и борьбе. То есть, позиция предполагает не только внутренне-теоретический аспект, но и внешне-практический, и оба они указывают на уровень зрелости личности, на характер ее самоопредения в обществе («кто я?»).
Субъектность, по А.М. Трещеву, обнаруживается в отношении к вещам, знакам, явлениям и событиям, себе и другим людям и проявляет себя в действиях. Ученый говорит, что субъектность – это «свойство личности осуществлять осознанные изменения в окружающей действительности, активно преобразовывать свой внутренний мир и мир других людей»[38]. Это свойство проявляется в деятельности и выражается в позиции личности, обеспечивая устойчивость этой позиции. А.М. Трещев определяет субъектность «как особую форму проявления и организации активного самоотношения человека к самому себе как субъекту, отношения к другим как уникальным субъектам, к профессиональной деятельности как креативной и инновационной, в которой происходит его саморазвитие, поддержания воспроизводства себя как автора собственного бытия в мире»; субъектность – это «принадлежность деятельному, «авторствующему», креативному субъекту»[39]. Автор связывает субъектность с принятием ответственности, проявлением надситуативной активности, вступлением в конфликт с общепринятыми правилами и нормами и с заниманием субъектной позиции. Этой позицией определяется автономность и свобода человека, его сознательность, ответственность и уникальность. М.И. Воловикова[40] также выделяет ответственность как основную категорию, формирующую субъектность.
Как мы видим, субъектности придается достаточно широкое значение и с ней связываются такие категории, как целостность позиции, автономность, ответственность, самореализация, сознательность. Без этих качеств, без должного уровня их развития человек не может чувствовать себя полноценным субъектом своей жизни.
Субъект «всегда неразрывно связан с другими людьми и вместе с тем автономен, независим, относительно обособлен»[41]. И как общество влияет на человека, так и человек своей деятельностью оказывает влияние на общество, в этой двойной связке являясь как объектом, так и субъектом влияний. О независимости как характерном качестве проявления субъектности говорит Щукина; по ее мнению, субъектность проявляется в способности человека вести себя независимо от воздействия обстоятельств и самому влиять на процесс своей жизнедеятельности[42]. Мы предпочитаем называть эту независимость способностью к самодетерминации как целенаправленному управлению своей деятельностью.
А. В. Брушлинский о человеке как субъекте говорит, что «это высшая системная целостность всех его сложнейших и противоречивых качеств, в первую очередь психических процессов, состояний и свойств, его сознания и бессознательного[43]». Эта целостность, по мнению автора, проходит процесс формирования в ходе исторического и индивидуального развития человека, по мере проявления им активности. А значит, человек не рождается сразу субъектом, а становится им благодаря осуществлению активности, о чем также свидетельствуют многие авторы (Белоус В.В., Брушлинский А.В., Вяткин Б.А., Сергиенко Е.А.). Субъект – это человек, обладающий сознанием, осуществляющий деятельность, поведение, общение и т.д.
Тезис о том, что человек не рождается субъектом, а становится им, все-таки является достаточно спорным. Так, В.В. Селиванов считает, что человек уже рождается индивидуальностью.[44] То же самое можно сказать и в отношении не только понятия индивидуальности, но и личностности и субъектности. Однако не стоит думать, что мы наделяем характеристиками, свойственными для данных психологических конструктов, ребенка или младенца. Естественно, он не обладает рефлексией, самосознанием, саморегуляцией и т.д. Но он не обладает ими в наличии, однако в потенциальном смысле они у него уже есть, так как младенец имеет задатки для дальнейшего развития своих антропологических качеств. Поэтому, естественно, в актуальном смысле младенец не является субъектом, но в потенциальном смысле он – уже субъект, так как развитие психики начинается с момента рождения (некоторые авторы – преимущественно представители так называемой трансперсональной психологии – видят это начало вообще в перинатальном периоде жизни).
Исследователи при рассмотрении субъекта обращаются к такой характеристике, как сознательность. По их мнению, субъект – это сознательно действующее лицо и осознающее самого себя[45]. Таким образом, субъект наделяется свойствами как сознания, так и самосознания, что позволяет говорить о таком качестве, как рефлексия.
В философской и психологической литературе понятие рефлексии очень хорошо раскрыто. Не углубляясь в поле ее дефиниций, отметим, что рефлексия – это сознательная способность к сосредоточению на самом себе как предмете, выражаемая не просто во фразе «знаю себя», а скорее в принципе «знаю, что знаю». Это осмысление своих целей, мотивов, установок, нравственных норм и т.д. Также рефлексию можно представить как анализ знания [а не только себя], его содержания и методологии познания, руководствующийся целью получения нового знания. Условно говоря, рефлексия предстает в двуаспектном проявлении: 1) самоанализ, 2) анализ знания. Рефлексия создает взаимосвязь между внутренним миром субъекта – системой его личностных смыслов – и операционально-предметной стороной его активности, то есть деятельности. Если рефлексия – внутреннее действие, то активность – действие, направленное вовне.
Для представителей субъектно-деятельностного подхода, основоположником которого является С.Л. Рубинштейн, субъект – это человек, проявляющий себя на высшем уровне активности, целостности и автономности[46]. А поскольку, по мнению Рубинштейна, субъект проявляется именно через свою деятельность, то субъект – это личность, выполняющая какую-либо деятельность (трудовую, учебную и т.д.) и проходящая в ней процесс своего становления и формирования.
Как отмечает К.А. Абульханова, субъектная парадигма, разработанная Рубинштейном, стала основным ориентиром все более расширяющегося спектра исследований личности как субъекта. А сама по себе категория субъекта многогранна, поскольку объединяет в себе несколько разных значений (субъект жизненного пути, коллективный субъект, субъект совместной деятельности). Субъект обязательно характеризуется такими признаками, как активность, самостоятельность, самодетерминация и самосовершенствование[47]. Выражая согласие с правомерностью выделения таких признаков, мы склонны предполагать, что активность нельзя расположить рядом со всеми остальными, так как она, будучи основанием развития субъекта, занимает место фундамента, на котором формируются остальные качества. Если же, пойдя обратным путем, мы признаем правомерность такого перечисления, значит, неизбежным образом создадим путаницу между общим и частным, видовым и родовым, что совершенно неприемлемо.
Б.Г. Ананьев, подобно С.Л. Рубинштейну, считал, что исходными характеристиками человека как субъекта деятельности выступают сознание и деятельность. Сознание – отражение объективной деятельности, а деятельность – преобразование действительности. Творчество – это высшая интеграция субъектных свойств, а задатки и способности – выражение потенциала. Основная форма развития свойств субъекта – это история производственной деятельности человека в обществе[48]. Творчество – особый вид мыследеятельности, и творческое мышление, являясь одним из проявлений деятельности, входит в структуру субъектных качеств. Субъект, по А.В. Брушлинскому, - это творец своей истории, вершитель своего жизненного пути. Он инициирует и осуществляет практическую деятельность, общение, поведение, познание, созерцание, а также и другие виды человеческой активности, характеризующиеся творчеством, нравственностью и свободой[49]. Другие исследователи (Астахова Н.В., Брегадзе А.А., Осницкий А.К.) считают творчество ведущей характеристикой активности субъекта.
Поскольку субъект – это инициатор осознаваемой и целенаправленной активности, то он должен проявлять способность к осознанной регуляции своей активности. Так, выделяется способность к саморегуляции (Коноз Е.М., Конопкин О.А., Корнилов А.П., Моросанова В.И., Осницкий А.К., Чуйкова Т.С.), которая, по нашему мнению, обеспечивает автономность и осознанный характер деятельности субъекта.
Утверждается, что субъектность проявляется в ситуации внутреннего выбора человека. Это выбор как возможность для разрешения противоречий, которое, наряду с организацией жизни и самосовершенствованием, выступает основной характеристикой субъектности[50]. Под противоречиями здесь понимается несоответствие между субъектной активностью и внешними по отношению к субъекту событиями, разновекторность направления действия этих сил.
Итак, категория субъектности, равно как и категория субъекта, имеет довольно обширный спектр значений, тем самым, с одной стороны, доказывая свою ценность и значимость для науки, а с другой, демонстрируя свою недостаточную разработанность, о чем говорит плюрализм мнений по отношению к содержанию данного понятия. На первый взгляд, плюрализм идей относительно категорий субъекта и субъектности и особая популярность данных категорий в науке указывают не на недостаток, а, наоборот, на чрезмерность их разработки. Однако – в чем и кроется диалектичное противоречие – эта чрезмерность выступает маской, скрывающей недостаток. Когда существует широкое разнообразие непримиримых мнений относительно какой-либо категории, можно смело говорить, апеллируя к этой непримиримости, о неполной разработанности категории; в случае ее полного и максимально исчерпывающего осмысления исчезла бы вопиющая идейная непримиримость.
Но, обобщая разные подходы в понимании субъектности, можно охарактеризовать ее как многогранное образование, которое формируется и развивается в течение жизни человека во время его жизнедеятельности и является как результатом, так и основным (системным) качеством его становления как субъекта. Имеет смысл провести семантическую близость между понятиями «субъектность» и «зрелость». Проявляя свою субъектность, личность проявляет зрелость и становится автором своей жизненной концепции бытия[51].
К. Уилбер, вслед за К.Г. Юнгом, под субъектностью человека понимает его самость («Я сам» как совокупность того, что делает человека субъектом своего опыта)[52]. То, с чем человек отождествляется на одной стадии развития (что переживается как «Я»), на следующей стадии превосходится им (разотождествляется) и наблюдается уже объективно и отстраненно. Таким образом, «субъект одной стадии становится объектом следующей стадии»[53]. Например, ребенок отождествлен со своим телом: тело – это «Я». Потом он отождествляется со своим умом, и тогда ребенок уже объективно воспринимает свое тело. Когда самость сталкивается с новым уровнем, она отождествляется с ним, а затем трансцендирует его и дистанцируется от него, включает его в себя и интегрирует его до более высокого, следующего уровня. Когда самость переходит на новый уровень сознания, она приобретает новый взгляд на жизнь; она на каждом уровне сталкивается с новыми ценностями и целями, новыми потребностями, новыми проблемами. Самость выполняет такие функции, как: самоотождествление, проявление воли (способность к осуществлению свободного выбора), проявление интерсубъективности (социальная направленность), эстетика (стремление к красоте), метаболизм (метаболизация опыта для построения структур), когнитивные способности (ориентация во внешнем мире), интеграция (уравновешивание и объединение всех наличных элементов). Самость – это центр интеграции, ответственный за уравновешивание и объединение всех уровней развития человека.
Позиция Уилбера отличается от позиций многих отечественных исследователей тем, что американский ученый рассматривает субъекта не через призму высшего уровня развития психики, а допускает существование субъектности (самости) на любом уровне (в каком-то смысле, полисубъектный подход). Хотя Уилбер говорит о развитии самости, по его мнению, она есть всегда; просто на разных этапах психического становления она отождествляется с разными объектами – с телом, с умом и т.д.
Делая вывод, отметим, что категории субъекта, субъектности, активности и деятельности нельзя рассматривать в отрыве друг от друга, так как они образуют единый категориальный комплекс. Возможно, для нашего исследования необходимо было бы наиболее полно раскрыть сущность понятия «субъектная позиция», но поскольку многие ученые определяют субъектность как основу для формирования субъектной позиции, мы предпочитаем рассматривать последнюю как элемент, входящий внутрь первой. То есть соотношение субъектности и субъектной позиции представляется нам как соотношение общего и частного, где первое выступает более широким (общим), а второе – его необходимой составляющей (частным). Еще М. Хайдеггер отождествлял позицию субъекта с его мировоззрением как принципиальным отношением к сущему; причем эта позиция понималась как деятельная «жизненная позиция»[54]. Собственно, субъектную позицию можно отождествить с таким качеством субъекта, как целостность – целостность мировоззрения, наличие «своей» картины реальности. Кроме того, данная позиция всегда реализуется в деятельной, преобразовательной активности субъекта.
Итак, проведенное исследование позволяет нам определить субъектность как способность реализации человеческой сущности в мире, с помощью которой человек проявляет и реализует себя как в пространстве своего внутреннего мира, так и в пространстве окружения; это человеческая подлинность, обнаруживающаяся в отношении к себе, другим людям и событиям, посредством которой субъект осуществляет преобразовательные изменения в себе и в окружающей его действительности. Кроме того, субъектность находится в едином онтологическом пространстве со свободой и ответственностью.
Субъект же – это творец своего жизненного пути, обладающий высшим уровнем целостности, сознательности и автономности (независимости), способный к самодетерминации и занимающий активную деятельную и мировоззренческую позицию по отношению к себе и окружающему миру, позволяющую ему развиваться в процессе жизнедеятельности. Это человек с богатым внутренним миром, с широким проблемным полем смыслов, которое постоянно (в процессе субъектной деятельности) расширяется еще больше, выходя за пределы известного.
Как пишет В.В. Знаков, в психологической науке субъекта рассматривают в структурном и динамическом плане. Первый говорит о субъектности как совокупности отношений человека к миру и к другим людям. Второй рассматривает субъекта через призму активности, а точнее, через разные ее виды, - созерцание, познание, действие, индивидуальное развитие[55]. Нам кажется максимально полным рассмотрение субъекта в обоих аспектах, поскольку они не вступают ни в какое противоречие по отношению друг к другу, а скорее наоборот дополняют один другого, в этом синтезе образуя единое непротиворечивое понимание субъекта.
Регуш Л.А. и Семикин В.В. наделяют особой актуальностью проблему становления субъекта различных сфер жизни и деятельности. По их мнению, эта проблема будет еще долго обсуждаться в трудах отечественных психологов[56]. Следует отметить, что в науке понятие «субъект» получило многоконтекстуальный характер, и нашли свое распространение такие частные проявления субъектности, как субъект общения, игры, труда и т.д.
2. Поликонтекстуальность (предикативность) категории «субъект»
М.В. Ермолаева отмечает широкую употребительность термина «субъект» – на разных уровнях и в разных контекстах. Она приводит такие примеры употребления термина «субъект», как субъект-индивид, субъект-группа, субъект-этнос, субъект истории, субъект жизнедеятельности, субъект психической деятельности, субъект социального действия[57]. Обращая внимание на перечисление, приведенное Ермолаевой, можно первые три вида объединить между собой по критерию количественного состава. Четвертый можно понимать по-разному – или субъект определенного вида научной деятельности (в частности, исторической) или субъект как историческая личность, сыгравшая значительную роль. Пятый, шестой и седьмой представляются на довольно абстрактом уровне, поскольку жизнедеятельность, психическая деятельность и социальное действие поддаются более четкой конкретизации и разукрупнению. Однако, по мнению многих психологов, анализировать многоконтекстуальность понятия «субъект» следует исходя из общего понятия деятельности, поскольку вне деятельности нет субъекта (некоторые ученые предпочитают в первую очередь брать во внимание понятие активности как основного свойства субъекта, а не деятельности); как принято считать, именно деятельность как психологическая категория определяет существование понятия «субъект» и придает ему многоконтекстуальный характер. Но мы в своем анализе не стремимся четко следовать перечислению Ермолаевой, поскольку оно представлено скорее не в форме четкой и конкретной классификации, а в форме простого приведения примеров.
Философ Мишель Фуко говорит, что не существует абсолютного субъекта, но все-таки субъект есть: субъект желания, дискурса и т.д.[58]. То есть, субъект «чего-то» существует, но нет собственно субъекта, отделенного от этого «чего-то». В общем, мысль Фуко охватывает более широкое пространство, чем психологическое убеждение о деятельности как основе развития и форме проявления субъектности, и выходит за рамки деятельностного проявления субъекта. Но что имеется в виду под той категорией, которая определяет существование субъекта?
Деятельность рассматривается как форма человеческой активности, которая регулируется сознательно поставленной целью. А учебной деятельностью является форма человеческой деятельности, цель которой – овладение способом действия. С учебной деятельностью непосредственным образом связана познавательная деятельность, формирующая представление о каком-то аспекте действительности. Здесь мы наблюдаем некоторое отпочкование учебной и познавательной деятельности от общей (назовем ее так) деятельности, при котором получается соотношение этих видов деятельности как общее и частное. Конечно, классификация видов деятельности не исчерпывается только учебной и познавательной, о чем говорит контекстуальное разнообразие использования категории «субъект». Например, Б.Г. Ананьев определяет деятельность как фактор человеческого развития и форму существования субъекта[59]. Форма – процесс, структура и т.д. Получается, что деятельность – это и процесс, в котором субъектность себя обнаруживает, и то, что структурирует самого субъекта. Заметим, что определение Б.Г. Ананьева не проливает свет на какой-то конкретный контекст проявления деятельности, а лишь абстрагирует последнюю. Поскольку деятельность – достаточно многообразное понятие, то и субъект деятельности – субъект непосредственно какого-либо проявления последней. Как пишет М.Ю. Смирнов, «человек является субъектом не одной, а многих деятельностей, образующих каркас его личности»[60]. Однако, как мы увидим далее, не каждый контекст, внутри которого используется интересующая нас категория, связан с деятельностью.
А.М. Славская, изучая понятие интерпретации, вводит новый термин – субъект интерпретации[61]. По ее мнению, субъект интерпретации – это автор своей концепции, объективирующий ее в разных жизненных контекстах (в науке, искусстве, жизни в целом), исследователь, ищущий новое в окружающем мире, личность, понимающая и объясняющее все новое, перед которым ее ставит жизнь. Это понятие – субъект интерпретации, – учитывая определение Славской, можно соотнести с понятием субъекта познания, который нацелен на раскрытие объективных, не зависящих от него связей и отношений, в то время как субъект интерпретации включает себя в эти отношения и связи. Однако авторство субъекта – это абстракция, которая подчёркивает включенность себя в мир, и субъект переживает соучастие в совместной активности как свою собственную активность, общие цели – как свои мотивы, со-знание как собственное знание.
Б.Г. Ананьев, опираясь на труды А.Ф. Лазурского, а затем В.Н. Мясищева, к понятиям субъекта познания и субъекта труда добавляет категорию субъекта отношений, которую он отождествляет с личностью. Основная характеристика личности, помимо статуса и социальных функций, – структура и динамика отношений. Эти отношения, будучи субъективным фактором, имеют своим объектом все многообразие бытия: общество, другие люди, сам субъект, деятельность. Отношения, переходя в черты характера, реализуют одну из основных закономерностей характерообразования. Как отмечает Ананьев, «человек становится субъектом отношений по мере того, как он развивается во множестве жизненных ситуаций в качестве объекта отношений со стороны других людей, коллектива и руководителей, людей, находившихся в различных социальных позициях и играющих различные социальные роли в истории его развития»[62].
Пожалуй, самое абстрактное, на первый взгляд, контекстуальное описание субъекта – это описание его через призму жизненного пути. Понятием «субъект жизненного пути» пользуются такие ученые, как К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, А.Н. Леонтьев и Д.В. Ушаков. Так, например, по А.Н. Леонтьеву, понятия личности и индивида выражают целостность субъекта жизни[63]. Но что это такое – жизнь? На этот вопрос невозможно дать конкретный ответ, а значит, и субъект жизни выступает пустой категорией.
Субъект по А.В. Брушлинскому, как уже говорилось выше, - это творец своей истории, вершитель своего жизненного пути. Он инициирует и осуществляет практическую деятельность, общение, поведение, познание, созерцание, а также и другие виды человеческой активности, характеризующиеся творчеством, нравственностью и свободой. А.А. Брегадзе, А.К. Осницкий и Н.В. Астахова также называют творчество одной из основных характеристик субъекта. Представляется существование еще одного понятия – субъекта творчества или творческой деятельности.
Д.В. Ушаков, вслед за Брушлинским, выделяет в субъекте два момента – активность и целостность. Изучая психологическую сущность таланта, одаренности и интеллекта, исследователь утверждает возможность человека самому строить свой талант, используя свои способности и качества. Таким образом, талант развивается посредством работы субъекта над собой, то есть собственно активностью. И человек, достигая творческих результатов, выступает субъектом своего жизненного пути[64].
По К.А. Абульхановой-Славской, личность становится субъектом жизненного пути «по мере развития ее способности к регуляции времени жизни»[65]. А своевременность – важнейшее из качеств личности как субъекта жизни, основание регуляции жизненного времени. Эту своевременность обеспечивают продуктивность использования времени, ориентация во времени, его структурирование. Благодаря этим качествам субъект может свободно владеть временем: его распределять, экономить и продуктивно использовать. «Подлинным субъектом жизни становится та личность, которая способна организовать свой жизненный путь как целое, сохранив на протяжении времени и обстоятельств свои важнейшие потребности, которые не удалось реализовать в настоящем, направляя всю свою жизнь на достижение главных ценностей, на решение задач самовыражения»[66]. Как мы видим, К.А. Абульханова-Славская также помещает субъекта в наиболее широкий контекст – жизнь.
Опираясь на идеи С.Л. Рубинштейна о сознании, М.И. Воловикова, изучая процесс нравственного становления человека согласно субъектному подходу, формулирует основные принципы нравственной психологии. Один из этих принципов гласит: с помощью сознания личность, выходя из наличной ситуации, становится субъектом моральной ответственности. Совесть же – это глубина человечности в сознательном субъекте моральной ответственности, а поступок – это единица нравственного поведения[67]. Так, мы видим еще один контекст, который придается интересующей нас научной категории. Этот контекст – моральная ответственность.
Еще один необычный для современных исследований в области психологии контекст проявления субъекта приводит С.В. Григорьев. Этот контекст – празднично-игровая культура, в соответствии с которым исследователь изучает категорию «субъект развития празднично-игровой культуры»[68]. Для него особую важность составляет изучение особенностей праздничного поведения, которые раскрывают многие психологические черты психологии человека, психологической культуры личности, личностные аспекты взаимосвязи развития и самовыражения личности, а также собственно развития личности как субъекта празднично-игровой культуры. Григорьев рассматривает игру и праздник – взаимосвязанные для него понятия – как проявления народного психологического опыта, постижение которого – одна из задач отечественной психологии. Он осмысляет проблему игры и празднично-игрового поведения как способ или форму взаимодействия человека с миром, как способность, называемая празднично-игровой культурой. Пространство и время праздника – сфера проявления, формирования и развития национальной и этнической идентификации личности, которая раскрывает особенности исторически сложившихся в культуре форм поведения: индивидуальные, этнические, конфессиональные.
Таким образом, следуя выделенному Григорьевым контексту, мы можем его расширить до сферы культуры в целом, что позволит нам выделить субъекта культуры (китч-, мид- или арт-культуры), а также искусства, науки и т.д.
Некоторые исследователи (М.Ю. Кондратьев, Э.Г. Вартанова) вводят в употребление понятие «субъект образовательного процесса»[69], который осуществляет учебную деятельность в системе отношений «учащийся – учащиеся». Субъект образовательного процесса благодаря характеру межличностного взаимодействия в рамках этой системы включен в процесс личностного развития профессионально формирующегося человека.
Один из самых необычных контекстов использования категории «субъект» - это эмоционально-чувственная сфера. Так, В.А. Лабунская выделяет понятие «субъект зависти»[70] . Несмотря на то, что, как принято считать, субъект фигурирует только внутри сферы активности или деятельности, мы вслед за В.А. Лабунской можем конституировать субъекта любого эмоционального состояния, который уже не будет выступать человеком деятельности, а скорее – человеком переживаний. Следовательно, любое сущее есть субъект, если рассматривать субъекта не с точки зрения качества, а с позиции предиката.
Пожалуй, самым широким контекстом, в котором мы наблюдаем существование субъекта, выступает не общение, не деятельность и даже не жизнедеятельность, а бытие в целом. Соответственно, формулируется такое понятие, как субъект бытия[71].
Как мы видим, понятие субъекта используется настолько широко и привязывается к такому многообразию видов человеческой деятельности (и не только деятельности), что приходится констатировать невозможность создания полной и исчерпывающей дефиниции категории, используя все возможные ее обозначения в научной литературе. Вместе с тем очень сложно проследить всю поликонтекстуальность данного понятия. От той сферы, от того контекста, внутри которого используется категория «субъект», зависит и формулировка определения данной категории. Так, определение субъекта учебной деятельности будет отлично от определения субъекта жизненного пути.
Огромная множественность понимания данной категории формирует широкое междисциплинарное поле, внутри которого уживаются друг с другом разные контексты существования субъекта (или не уживаются?). Но поскольку представляется затруднительным создать некую таблицу, символизирующую это поле, внутри которой в виде цельной одноуровневой системы будут представлены все контексты, возникает проблема согласования истинных сфер существования субъекта. Так, например, мы не можем поместить в одну плоскость сферу общения и сферу активности, поскольку второе выступает более общим понятием по сравнению с первым. Соответственно, если мы говорим о субъекте общения и субъекте активности, первое по отношению ко второму будет выступать неким видовым признаком (под-), также как стол относится к мебели. Или, позволяя себе говорить о субъекте бытия, мы лишаемся возможности применять, например, словосочетание «субъект обучения»; первое уже будет родовым признаком (над-) по отношению к более узкому второму понятию. Причем далеко не все сферы можно классифицировать как общее и частное, некоторые сферы вообще не имеют практически никаких точек соприкосновения, благодаря чему утрачивается возможность поместить их в одно поле, каким-то образом упорядочить. Как соотносятся между собой субъекты зависти и учения, субъекты деятельности и культуры?[72] По замечанию Ж. Делеза, множество не может содержать самого себя в качестве элемента; философ именует такое множество ненормальным множеством[73]. Но, исходя из многообразия сфер, внутри которых помещается категория субъекта, она становится множеством, включающим самого себя внутрь себя же, что логически недопустимо.
Широта применения интересующей нас категории, многообразие сфер, говорит нам не только о многоконтекстуальности действительного использования понятия субъекта, но и о недостаточной чистоте терминологического аппарата, которая приводит к размыванию понятия «субъект», к его предельному абстрагированию, к лишению его строго определенного онтологического статуса. Здесь уместно привести аналогию из книги Жана Бодрийяра, который утверждает отсутствие политики, сексуальности и эстетики, так как и политическое, и сексуальное, и эстетическое трансцендировалось в другие сферы бытия. Теперь «все сексуально, все политично, все эстетично»[74]. Но когда все политично, слово «политичность» теряет смысл; когда все сексуально, секс низводит себя на нет, и ничто больше не сексуально; когда все эстетично, то какой смысл искать где-либо эстетику и, опять же, пользоваться этой категорией – ведь нет больше прекрасного и безобразного, нет больше искусства. Вслед за Бодрийяром, учитывая трансцендирование субъектности во многие бытийные контексты, мо можем сказать: «все субъектно». Если мы одинаковым образом применяем какую-то категорию внутри разных уровней организации, на различных классах (высокий-низкий, широкий-узкий и т.д.), то исчезает сама категория, растворяется в онтологической широте и глубине этого океана бытия. Можно добавить, что, по мере увеличения объема понятия определенность его содержания падает до нуля; выражаясь другими словами, разрывается связь между означающим и означаемым, и процесс означивания нивелируется (если для кого-то субъект означает инициатора своей жизни в целом, то кто-то другой под этим словом понимает инициатора общения или осознанной деятельности).
Делая вывод, скажем, что широта использования категории «субъект» лишает его устойчивого положения в структуре научного знания. Если философы-постмодернисты лишают субъекта онтологического статуса, то мы ставим под сомнение его гносеологический статус внутри гуманитарных наук. В структуре философского знания (постмодернистского) субъект лишен своего существования по причине детерминированности языковыми структурами, бессознательным, культурным текстом и т.д. (об этом речь пойдет далее). В нашем же случае субъект перестает быть самим собой не столько потому, что свобода человека иллюзорна и он полностью управляется социальным бытием – культурой, языком, нравами, а для полноценной субъектности просто не остается места, а именно из-за предельного абстрагирования этого понятия и смешения контекстов его использования. И если эти контексты «пожирают» друг друга или просто не имеют один к другому никакого отношения, если их нельзя внести в единое классификационное поле, то их субъектов ожидает та же участь. И для четкого определения научного статуса категории «субъект» необходимо первоначально определить для него контекстуальную классификационную сеть (единую), где не будут стоять рядом обучение и бытие, активность и жизнь, общение и деятельность. Сеть, за рамки которой человеческая субъектность не будет выходить. А пока этой единой сети нет, то имеет смысл говорить о субъектности только как о неопределенной научной категории, не имеющей однозначного (непротиворечивого) содержания.
3. Основные формы понимания категории «субъект»
Для того чтобы систематизировать общенаучное знание о понятии «субъект», необходимо обратиться к тем подходам, внутри которых оно используется. Так, теоретическое обобщение множества работ, посвященных теме субъекта, позволяет разделить эти подходы на три формы понимания. Первую из них мы назовем оппозиционной (противопоставление), вторую – предикативной (предикат), а третью – статической (качество).
1. Противопоставление. Данный подход носит такое название, так как внутри него субъект рассматривается как противостоящий своему оппоненту – объекту. Такое рассмотрение является классическим и своими корнями уходит в глубину веков, в классику философской мысли. Философы интересовались связкой «субъект-объект» (познающий-познаваемый, созерцающий-созерцаемое и т.д.), разделением и отождествлением обоих элементов, принадлежащих данной связке. Кроме того, интерес к ней был обусловлен в основном одним контекстом – контекстом познания окружающей реальности, мира во всем его многообразии, а также познания самого себя, где категория субъекта выполняла сугубо функциональную роль. Субъектность здесь реализуется не в своей подлинной форме, а лишь в форме познавательного отношения. . Позже педагогическая мысль заимствовала дискурс противопоставления субъекта объекту, но здесь он уже связан не с познанием, а в первую очередь взаимоотношением между учителем и учениками, преподавателем и студентами, лидером и группой. Такой способ рассмотрения получил вполне конкретное название в педагогике – «субъект-объектные взаимоотношения», внутри которого реализуется уже не познавательная активность, а практическая деятельность (учитель преобразует ученика). В наше время к данной концепции добавилась альтернативная ей, которая называется «субъект-субъектные взаимоотношения» или, например, «субъект-субъектная модель образования», согласно которой субъект уже не столько противопоставляется чему-либо, сколько соединяется с чем-то; в данном случае, другим субъектом. Однако мы упоминаем эту модель внутри именно модуса противопоставления, поскольку она, во-первых, есть необходимое следствие способа рассмотрения категории «субъект», соответствующего данному модусу, а во-вторых, она не имеет никаких сходств с традициями изучения этой категории, присущими другим модусам.
Психоаналитики (З. Фрейд, Ж. Лакан) в рамках модели противопоставления рассматривают феномен женской субъективности. По их мнению, женская субъективность конституируется благодаря наличию фигуры Другого, которым выступает мужчина[75]. То есть, именно Другой, являясь условием возникновения женской субъективности, является вместе с тем объектом, а последняя становится субъектом. Другими словами, при отсутствии мужчины женщина не может конституироваться как субъект, что в принципе коррелирует с общеизвестным тезисом, согласно которому без объекта нет субъекта. Мы в настоящей работе не ставим цель подвергнуть анализу приведенное (весьма сомнительное) психоаналитическое допущение, но лишь приводим его как пример, который расширяет описываемую нами область – область противопоставления – и освобождает ее от единственного контекста, который принято с ней связывать – контекста познания.
Данная форма понимания не ограничивается только лишь гносеологизмом, а представляет субъект-объект в максимально расширенном смысле, что означает применение данной связки к взаимодействию любых систем. Однако, по замечанию К.Н. Любутина и Д.В. Пивоварова, такое отождествление субъект-объектного отношения с взаимодействием не способствует решению философских проблем[76]. Говоря более конкретно, оно не способствует разрешению проблемы сущности субъекта, изучению его внутренних (антропологических) характеристик.
Абстрактность формы противопоставления. В научной литературе, несмотря на ясность изложения антагонизма между субъектом и объектом, прослеживается некоторая абстрактность, когда оба понятия отождествляются друг с другом. Например, обращая взор на процесс рефлексии и самосознания, И. Фихте представляет субъекта одновременно как собственно субъекта, так и объекта своего познания; Я толкует себя в деятельности полагания, при этом зная, что оно себя полагает, и, зная это, полагает себя как данное знание; Я здесь – одновременно и созерцание и понятие (Я видит себя и видит сам способ видения себя), вершитель действия и его продукт, субъект самосознания и его объект, полагающее и полагаемое. Таким образом, зачастую стирается демаркационная линия между субъектом и объектом, тем самым подводя их к общему знаменателю и смешивая между собой.
2. Предикат. Под словом «предикат» понимается носитель чего-то, который, находясь в отрыве от этого «чего-то», не может обладать самостоятельной сущностью и набором характеристик. Следовательно, субъект здесь рассматривается именно как носитель вида деятельности. Причем под деятельностью подразумевается не только какой-то вид, входящий в психологическую классификацию деятельности (игра, учение, труд), а более широкий спектр прилагаемых неким лицом действий; скорее, этому спектру в наибольшей степени подойдет понятие активности, нежели деятельности, поскольку оно обладает более широким значением. Субъект здесь – просто носитель определенной формы активности. Обращаясь к литературе гуманитарной тематики, мы можем встретить такие фразы, как субъект познания, общения, труда, права и т.д. Или встречаются также максимально широкие сферы, используемые в связанности с предикатом «субъект»: активность в целом (субъект активности), деятельность (субъект деятельности) или даже бытие (субъект бытия). Предикатность субъекта выражается в его не-существовании вне выражающего его контекста. Субъект – это часть бытия, и бытие никуда не девается, если в нём нет субъекта. Правда, в этом случае оно становится неодухотворённым, мёртвым бытием, не-действительностью. Иными словами, присутствие субъекта – это качественно иное бытие. Хотя, если мыслить метафизически, то субъект бытия – это бог.
Как мы видим, понятие субъекта используется настолько широко и привязывается к такому многообразию видов человеческой деятельности (и не только деятельности), что трудно проследить всю поликонтекстуальность данного понятия. От той сферы, от того контекста, внутри которого используется категория «субъект», зависит и формулировка определения данной категории. Так, определение субъекта учебной деятельности будет отлично от определения субъекта активности. Собственно, субъект здесь есть просто приложение, лишенное каких-то «своих», антропологических, качеств.
Абстрактность формы предиката. Огромная множественность понимания данной категории формирует широкое междисциплинарное поле, внутри которого бессистемно сосуществуют разные контексты бытия субъекта. Представляется затруднительным создать некую таблицу, символизирующую эту модель, внутри которой в виде цельной одноуровневой системы будут представлены все контексты, а потому возникает проблема согласования истинных определений субъекта. Эта трудность заключается в том, что модель не одноуровневая, а многоэтажная (многомерная). Так, например, мы не можем поместить в одну плоскость сферу общения и сферу активности, поскольку второе выступает более общим понятием по сравнению с первым. Причем далеко не все сферы можно классифицировать как общее и частное, некоторые сферы вообще не имеют практически никаких точек соприкосновения, благодаря чему утрачивается возможность поместить их в одно поле, каким-то образом упорядочить. Как соотносятся между собой субъекты зависти (как эмоционального состояния) и учения (как вида профессиональной деятельности), субъекты активности и культуры. Ведь нельзя построить теорию субъекта, спекулятивным образом переписав любой учебник по общей психологии, добавляя слово «субъект» перед тем или иным видом деятельности, психическим процессом и состоянием (субъект воображения, субъект настроения). Так можно договориться до «субъекта личности» - структуры, которая производит личность так же, как поджелудочная железа – желчь. В общем, широта предикативности понятия «субъект» сводит данный термин просто к фикции; он утрачивает свое значение, выступая «пустой» категорией, равно как широкое понимание власти у М. Фуко (власть есть везде не в том смысле, что все охватывает, а в том, что исходит отовсюду) также приводит к потери понятием своего значения. Форма деятельности, фигурирующая в связке с понятием субъекта, сама по себе может обладать определенной сущностью, но субъект как таковой сущностью не обладает, и потому значение слова «субъект» независимо от существования той или иной субъектной деятельности. Чем шире представляется изучаемый предмет, тем труднее дать этому предмету исчерпывающее определение. Но в настоящем случае речь идет не только о широте использования категории «субъект», но и о глубине: как уже было отмечено, она равно применяется к явлениям, которые по отношению друг к другу могут выступать как общее-частное (различные классы) или вообще не иметь возможности быть классифицированными в единую классификационную систему.
3. Качество. Внутри этой формы понимания принято рассматривать субъекта уже не как феномен, противопоставляемый чему-то, и уже не как просто носителя некоей формы активности, лишенного собственной сущности, а как человека, обладающего особым качеством – субъектностью, которое, благодаря тому, что он вступает в разнообразные отношения с миром, порождает совокупность свойств, в которых субъектность себя обнаруживает. Здесь субъект выступает, с одной стороны, набором некоторых психологических качеств и особенностей человека, а с другой – обладателем достаточно высокого уровня их развития. То есть, субъект – это человек, обладающий определенным психологическим (внутренним) складом.
Правомерно будет добавить, что это понимание отличает от предыдущих не только совершенно другое рассмотрение субъекта – уже как человека, находящегося на высокой стадии своего развития, – но и наличие здесь специфического феномена «субъектность», которому внутри других форм понимания места не нашлось. То есть, здесь субъект обретает уже не гносеологические характеристики, а именно антропологические.
Абстрактность формы качества. Cуществует множество концепций, предметом изучения которых выступает субъект, к чему следует добавить отсутствие межконцептуального единства, прослеживающегося внутри данного дискурса. Так, одни авторы представляют субъекта и личность как одно и то же, другие же их разделяют. Одни наделяют субъектностью ребенка, а их оппоненты приходят к мнению, что субъектом становятся только в зрелом возрасте. И таких противоречий, благодаря которым категория «субъект» буквально разрывается на части, очень много, и их количество как раз и способствует абстрагированию (экстенсивному расширению объема) категории.
Изложив вкратце особенности, присущие рассмотрению понятия субъекта внутри каждого модуса, для наглядности представим таблицу, отображающую нашу концепцию.
|
Противопоставление |
Предикат |
Качество |
|
Субъект противопоставлен объекту. В субъекте не выделяются специфические внутренние (антропологические) особенности. |
Субъект не обладает самостоятельной сущностью (субъектностью), а является признаком любого процесса и состояния. |
Субъект – человек, обладающий особым качеством – субъектностью, которое, благодаря тому, что он вступает в разнообразные отношения с миром, порождает совокупность свойств, в которых субъектность себя обнаруживает. |
Мы обозначили три формы понимания субъекта, из которых нас интересует только третья. Именно она ложится в основу нашего исследования, и непосредственно ей мы уделили особое внимание в данной главе, рассматривая субъекта именно с «качественной» стороны, и осуществили попытку создать единую концепцию субъекта, которая базируется на его антропологических характеристиках, приведенных в систему.
На первый взгляд термин «статическая» модель может навлечь на себя обвинение следующего характера: понятие «статичность» при обозначении одной из форм понимания субъекта не соответствует тому, что субъектность заключена в развивающихся, трансцендентальных способностях. Действительно, слово «статичность» ассоциируется с определенной застывшей монументальностью, но в данном случае оно обозначает совсем не невозможность развития внутренних субъектных качеств, а служит выражением идеи о их наличии как неотъемлемой составляющей субъекта. Естественно, они могут (и должны) развиваться в процессе жизни, но статика в настоящем случае значит именно их обязательное присутствие у субъекта. Если подходить к проблеме с позиции возможности/невозможности наличия трансцендентальных способностей у субъекта, то термин «статическая» неуместен. Но если исходить из контекста сравнения разных форм понимания, то термин не станет вызывать резких возражений, так как он не противопоставляется возможности развития, а отсылает к выделенным качествам.
У читателя может возникнуть вполне уместный вопрос о том, как же все-таки развести понятия личности, индивида, индивидуальности и субъекта. Постараемся по возможности коротко ответить. Субъект предполагает определенную целостную позицию по отношению к себе и к миру, а личность – это социальная характеристика качеств человека, которые позволяют ему адаптироваться к обществу. Личность – коррелят соответствия определенному социальному эталону. Личность в основном рассматривается через призму общественных отношений. В научной литературе обычно ей дается такое определение: личность – это субъект общественных отношений (это определение указывает на то, что субъект – более широкая категория). Конформист может являться личностью, но быть субъектом ему отказано. Еще, под личностью часто подразумевается совокупность черт характера, склонностей, направленностей и т.д., а эти аспекты не относятся к теме данного исследования и специфике [понимаемого нами] субъекта.
Под индивидом понимаются в основном возрастно-половые и индивидуально-типические особенности, то есть конституционные, физические, но не те, которые мы выделяем в качестве субъектных.
Различные авторы индивидуальность рассматривают по-разному. В раскрытии понятия субъекта мы опирались на философские, психологические и педагогические источники. Если обращаться к психологии, то индивидуальность, с одной стороны, коррелирует с индивидом именно как с человеком в биологическом смысле. Или же, с другой стороны, индивидуальность – это интегральная характеристика, которая включает внутрь себя индивидные качества, личностные и субъектные. Вот две основные формы понимания. Но у нас в задачу не входило рассмотреть понятие индивидуальности, поэтому оставим данный вопрос открытым.
Исследование, проведенное выше, условно можно разделить на три части. Первая вовлекает читателя в историю философии с целью изучить динамику становления идей о субъекте в процессе исторической смены философских традиций. Вторая представляет собой анализ широкого поля определений субъекта и субъектности, на основе которого фиксируется антропологическая сущность субъекта и его основные атрибутивные характеристики. В третьей дается краткое описание трех форм понимания субъекта – противопоставление, предикат, статика, - из которых только последняя отражает антропологическое содержание субъекта.
Нельзя сказать, что вторая часть закончилась внутри данных параграфов, так как мы вернемся к ней в следующем, где рассмотрим образ субъекта в философии постмодернизма. Мы решили уделить этой области философского знания намного большее внимание, чем предыдущим, так как она, хронологически находясь ближе к нашему времени, представляет значительный интерес для исследования как современная нам и вместе с тем является серьезным оппонентом совокупности модерновских традиций.
4. Субъект в пространстве философии постмодернизма
Анализ, предпринятый в настоящем параграфе, является логическим продолжением историко-философского рассмотрения субъекта. Мы обратимся к концепции «смерти субъекта», которая получила широкое распространение в современных исследованиях. В ходе исследовательской работы предстоит сравнить воззрения философов постмодернистской направленности со взглядами представителей модернистского подхода на субъекта.
Выбор обозначенного контекста, то есть именно постмодерновской тематики, а не какого-либо другого философского направления, хронологически относящегося к более раннему периоду развития научной мысли, определен четким критерием. Им выступает новизна, а потому и актуальность этого философского мировоззрения, характерная для нашего времени. Постмодернизм как современное направление философии отражает многие явления нынешней культуры, а также придает проблеме субъекта важное значение и ставит ее в центральное положение [несмотря на присущую данному направлению философской мысли ориентацию на антицентризм и антифундаментализм]. К тому же постмодернизм является оппозиционным течением по отношению к предшествующему модернистскому мировоззрению, а если мы хотим разносторонне рассмотреть категорию субъекта, необходимо обратиться к «обеим сторонам медали». Являясь философским течением, возникшем благодаря переходу западных стран к постиндустриальному (информационному, где главным становится производство не товаров, а знаков) обществу, постмодернизм содержательно отражает именно современные (или, как отмечают многие исследователи, постсовременные) взгляды на мир и, в частности, на субъекта. Началом прихода постмодернистской культуры послужили импрессионизм, абстракционизм и сюрреализм в живописи (С. Дали), импровизация в музыке (джаз, арт-рок), эклектика в архитектуре, теория относительности и концепция бессознательного в науке, ницшеанская переоценка ценностей в философии. Именно постмодернизмом был провозглашен лозунг «открытого искусства».
Кроме того, многие ученые, говоря о состоянии современной культуры, упоминают именно постмодерновские традиции, благодаря которым происходит текстуализация культурного пространства, ризоматизация, децентрация и связанная с ними «перенасыщенность» культуры, нивелирование индивидуальности и субъектности, вольность в выборе ценностных ориентаций, стирание границ между формами культуры, а также настоящей реальностью и мнимой, виртуальной. Культуре постмодернизма свойственна гиперконтекстуальность как взаимопроникновение разных сфер жизни, духовно-телесный реализм как теория всеобщей действительности, а также способная изменяться идентичность. Учитывая эти особенности, в первую очередь изменчивость идентичности и нивелирование индивидуальности, становится неудивительно, почему в основе постмодернизма лежит идея «смерти субъекта». Практически все монументальные творения модерна культурой постмодерна лишаются своей монументальности, укоренненности. Так, критерии научного познания, эстетические нормы и традиции искусства, объективность истины, бесконечность творческих форм, а также субъект в своей целостности, автономности и осознанности, подвергаются скепсису. Но это уже не скепсис экзистенциализма, связанный с мрачностью проблем страдания и тяжести субъективного бытия. Культура постмодерна, наоборот, уничтожая модерновские творения, делает это в ироничной, игровой и немного циничной манере, не придавая данному процессу экзистенциально-эсхатологического значения. Находясь внутри данной культурной традиции, творец осознает как отчужденность творческой деятельности от своей сущности (реципиент трактует авторский текст отличным от самого автора способом), так и отсутствие таковой сущности, место которой занимают субъектная расщепленность и фрагментированность. Занимаясь искусством, субъект из демиурга превращается в скриптора, играющего с реципиентом и ткущего свой текст из «лоскутков» других текстов и культурных традиций.
Но чем же принципиально отличается культура постмодерна от предшествующей ей культуры модерна? С.Ф. Денисов приводит основные отличия: модерну свойственны центрированность, неравенство и иерархия ценностей, цель, нетерпимость и неравноправие, мужское начало, конструкция, созидание, определенность и оседность, глубина, территориальность, сюжет, серьезность, взрослость, в то время как постмодерну присущи их противоположности. Это децентрированность, равенство и анархия ценностей, бесцельность, плюральность, толерантство, женское начало, деконструкция, разрушение, неопределенность, номадичность, поверхность, детерриториальность, скольжение, коллаж, игривость, детскость[77]. Естественно, эти отличия культур задают отличительные особенности между субъектами постмодерна и модерна.
Постмодернизм описывает действительность не как раз и навсегда данную (пусть даже находящуюся в процессе становления) реальность, а как мир, лишенный сущностей, как мир симулякров. Постмодернистские описания вместо твердого фундаментализма предполагают плюрализм, в соответствии с которым любой концепт может быть уничтожен, переосмыслен и децентрирован. Нет фундаментальных истин, само слово «истина» не оправдывает свое существование, - предполагает постмодернистский способ описания реальности. Однако в нем кроется противоречие – «открытие» отсутствия фундаментальных истин тоже есть истина.
Феномен «конца истории» многие исследователи относят именно к постмодерновской эпохе[78]. Если раньше в мире что-то менялось человеком, человек определялся через действие, то теперь – по окончанию истории – делать стало нечего. И некому; бог мертв (Ницше), а за ним исчез и человек (постмодернизм). И в такой ситуации обессмысливания всего на смену модернистской серьезности приходит легкомыслие, игра и насмешка. Сюда же имеет смысл отнести заостренность внимания к маргиналиям общественного бытия (безумие, преступность), чему послужила озабоченность сознания, усомнившегося в прочности позиций своего бытия.
По замечанию А. Колесникова, скептицизм постструктурализма, помимо многих социальных причин, был также вызван распространением массовой культуры[79]. Отчасти с этим замечанием можно согласиться, если под массовой культурой понимать культуру, пропагандирующую плюрализм и «переоценку ценностей», чего, однако, нельзя сказать про всю массовую культуру. Мы, не создавая принципиального разделения постструктурализма и постмодернизма, обратим замечание автора к постмодернизму. Однако распространение массовой культуры – далеко не единственное явление, послужившее фундаментом для возникновения постмодернистского миропонимания.
Значительное открытие постмодернизма - это осознание факта, что ни познающий субъект, ни мир не являются раз и навсегда данными, - они существуют в изменяющихся состояниях, у которых есть своя история и развитие. Субъект не изолирован от мира, как считали сторонники более ранней (ньютоновской) парадигмы, не учитывающие его влияния на предмет познания: согласно классической парадигме, познающий не влияет на познаваемое и не является его частью. Сейчас же, напротив, стала очевидной неустранимость субъективности из акта познания[80], указывается доминирующая сегодня скрыто-субъективистская трактовка знания, которая связывает его содержание с качествами познающего субъекта[81]. Как отмечает В.В. Знаков, рассматривая субъекта через призму постнеклассической парадигмы, познающий субъект находится внутри изучаемого мира, а не дистанцирован от него; мир таков, каким его видит субъект[82]. Эти тезисы говорят нам о том, что критерий объективности, согласно которому познается мир, нарушается самим существованием познающего субъекта, наличием у него своего «Я», своих интересов и приоритетов. Если же попробовать вынести его за скобки познающего акта, то и самого познания не будет вовсе, в чем и заключается диалектичность процесса изучения действительности. Постмодернизм указывает нам на эту проблему, ставя под сомнение возможность «чистого» познания.
Субъект новой парадигмы представляет мир, исходя скорее не от самих характеристик объективной реальности в их изначальной предзаданности, а исходя из собственной «истории», от истории постоянно развивающихся мировоззрений, динамика которых, в свою очередь, меняет и характеристики мира[83]. Нет четких границ между познающим субъектом и познаваемым объектом, и первый вполне может являться частью второго, а также привносить во второй свое понимание в соответствии с характерным для данной эпохи мировоззрением. Кроме того, при постулировании независимости познаваемого предмета от субъекта сам субъект не может представляться существующим – ведь он как изучаемое явление не является независимым от субъекта, то есть от самого себя[84]. В связи с неустранимостью субъективного из гносеологической ситуации Л.И. Воробьева предлагает вообще отказаться от субъект-объектной парадигмы и заменить понятие «субъект» как идеальную точку, помещенную в реальность сознания, понятием «автор» как протяженную область в пространстве бытия-сознания («принадлежность автора укоренена не только в сознании, но и в мире»)[85]. Следует заметить, что Воробьева рассматривает автора скорее как экзистенциальную категорию, нежели постмодерновскую – ей придаются модусы свободы и ответственности, осмысленности, событийности, контекстуальности, личностной уникальности, в то время как субъект в своем чистом познании представлялся стерильным, безличным. В общем, постмодернизм выражает скептическое отношение как к процессу познания, так и к самому субъекту.
В модернистском гуманитарном дискурсе принято рассматривать субъекта в его многоконтекстуальности, в то время как в постмодернистской традиции вместе с исчезновением субъекта исчезает и вся многоконтекстуальность его проявлений. Постмодернистский индивид внесубъектен и не способен на сознательную и свободную деятельность[86]. Так, мы можем это заметить в сфере научного познания[87], в художественном творчестве[88], в профессиональном контексте (мы продаем корпорациям как свою рабочую силу, так и личностные качества), в сфере политической идеологии (субъект – марионетка, которой манипулируют с помощью политических технологий)[89] и т.д. Эти факты говорят о том, что субъекту отказано быть помещенным в какой-либо определенный контекст.
По замечанию Ж. Делеза и Ф. Гваттари, желание вытесняется потому, что оно ставит под вопрос устоявшийся общественный порядок. «Для общества жизненно важно подавлять желание, и даже найти кое-что получше подавления – сделать так, чтобы подавление, иерархия и эксплуатация сами стали желаемыми»[90]. Желающее производство, по мнению авторов, вытесняется, поскольку в противном случае оно породило бы беспорядок в общественном производстве, незакодированные потоки желания. Мы видим такое хитрое переворачивание – желание одного становится желанием совершенно противоположного. Может быть, здесь уместно вспомнить теорию Э. Фромма, согласно которой индивид по собственному желанию сбрасывает с себя цепи субъектности и убегает от свободы, поскольку не в состоянии нести ответственность за эту свободу, за свой выбор и за свою жизнедеятельность в целом. Массы требует фашизма, массы желают стать эксплуатируемыми. И эта эксплуатация, изначально исходившая извне, постепенно интериоризируется вовнутрь, и теперь уже становится мощной детерминантой, подрывающей субъектность изнутри. Чтобы рассмотреть этот механизм, необходимо обратиться к ортодоксальному психоанализу.
Как известно, Зигмунд Фрейд – отец психоанализа – разработал теорию личности, согласно которой последняя подразделяется на три инстанции: Я, Оно и Сверх-Я, где первое – это сознание, второе – огромный пласт бессознательного, и третье – голос совести. Если сравнивать эту концепцию с изучаемой нами теорией субъектности, инстанцию Я можно отождествить с субъектом, поскольку она характеризуется как минимум сознательным поведением (однако субъектность – это не только осознанность). Оно – это то, что не осознается, а значит, не может претендовать на роль субъекта. Сверх-Я же – довольно сложный феномен, относительно которого трудно дать однозначную оценку, может ли он входить в сферу субъектности или ему следует отказать в этом. Сверх-Я представляется в виде интериоризированного извне, а не внутренне сконструированного, феномена, что не дает нам возможности отвести ему место внутри субъектности. Сверх-Я в данном случае – это внутреннее – целесообразно было бы назвать лишь складкой внешнего. Однако вряд ли данную инстанцию следует считать в полной мере результатом «проглатывания» ребенком внешних воздействий, без предварительного их «пережевывания» и выброса того, что не «жуется». Наверняка Сверх-Я формируется в два этапа: 1) усвоение воздействий, происходящих из внешней среды, 2) присвоение результата этих воздействий. Но что касается второго этапа, то уместно вспомнить знаменитый рубинштейновский принцип «внешнее через внутреннее», согласно которому внешние требования преломляются через наличествующие в психике ребенка образования, которые выступают своеобразным фильтром, «решающим», что следует пускать вовнутрь, а что нет.
Однако, если идти еще дальше, стоит поставить вопрос: откуда появились эти самые интрапсихические образования? Не результат ли это тех самых пресловутых внешних воздействий? Ведь ребенок, рождаясь, является существом аморальным. Моральные нормы и предписания он усваивает (и присваивает) в процессе социализации, то есть вхождения в общественную среду, которая оказывает на него воспитательное воздействие. Выходит, что внутрипсихические образования, о которых мы сейчас ведем речь, и есть Сверх-Я – может быть, еще не до конца сформированное, но все-таки Сверх-Я. Таким образом, данная инстанция, формируясь под влиянием социума (в лице прежде всего родителей), берет на себя функцию «фильтрации» последующих внешних воздействий, несмотря на то, что сама была создана благодаря им. Именно Сверх-Я оценивает то, что приходит извне, а не Я; по крайней мере, следуя ортодоксальной психоаналитической логике, это так. Значит, мы не можем включить структуру Сверх-Я в поле субъектности из-за ее интериоризированного характера. Если же голословно отбрасывать Сверх-Я, то автоматически мы отбросим и любую нравственность, и совесть, и мораль. В таком случае истинным субъектом предстанет пред нами тот, кто лишен Сверх-Я, прообраз сверхчеловека в лице варвара. Но налицо тупиковость хода таких рассуждений, поскольку варвара мы не можем наделить субъектными свойствами априори. Представляется абсолютно немыслимым развитие субъектности у индивида, оторванного от общества: человек в отрыве от социума вообще не способен развиваться. Постмодерновский шизофреник, не ощущающий на себе оков цивилизации, едва ли может быть субъектом.
Возникает неизбежный вопрос: а что же внутри субъекта не интериоризировано? Вообще есть ли что-то в психике человека, что не является продуктом общества? И когда встает подобный вопрос, исследователь не может дать на него точный ответ. Мы не претендуем на роль открывателей, которые сейчас с легкостью, как по мановению волшебной палочки, разрешат данную проблему, весьма актуальную и вместе с тем неразрешимую. Можно сказать, что степень ее актуальности прямо пропорциональна степени ее неразрешимости. Но тем не менее мы находим, что сказать по этому поводу. Дело в том, что сама постановка вопроса, сама подача проблемы не отличается ясностью и конкретикой. Поэтому важен не однозначный ответ, а тот ответ, который подходит под некий аспект данной проблемы. Конечно, на вопрос «а что же внутри субъекта не интериоризировано?» мы можем однозначно ответить – «ничего». Но тогда мы накликаем на себя обвинение в примитивизме или редукционизме. Кроме того, тогда мы просто замкнем круг и уничтожим саму проблему нашего исследования именно как проблему. При таком ответе мы признаем и полное отсутствие субъекта и субъектности, а значит, и бесполезность попыток вводить их – эти понятия – в научный оборот. Тогда, по нашему мнению, и сама проблема субъекта, исходившая еще из новоевропейской эпохи (если ее корни не появились еще раньше) оказывается несостоятельной, ненаучной и бесполезной. А значит – как последний вывод – мы перечеркнем необходимость работ многих видных философов и, подобно крайне-радикальному постмодернизму, поставим крест на том, что изучалось на протяжении многих веков.
Но тем не менее трудно найти внутри индивидуальной психики что-то, что появилось изначально, с самого рождения, и не является следствием присвоения, кроме бессознательного Оно. Психические процессы (внимание, мышление, память, восприятие, воображение) можно рассматривать как изначальную данность, однако по своим свойствам и функциям они стоят совершенно в другой плоскости, нежели субъектность. Конечно, субъекту присущи эти процессы, но его нельзя с ними отождествлять.
Снова возвращаясь к психоанализу, согласно которому как Оно, так и Сверх-Я, оказывают непосильное давление на Я, на субъекта, можно первым двум инстанциям придать антисубъектный характер, подавляющий субъектность. Сравнивая действие Оно и действие Сверх-Я, нетрудно заметить их разновекторную направленность. Если Оно призывает к удовлетворению инстинктов и потребностей – самых низменных, но самых природных, - то Сверх-Я призывает к воздержанию от этого удовлетворения. И субъект, то есть Я, таким образом, оказывается постоянно раздираемым двумя властвующими структурами, стоящим меж двух огней, между Сциллой и Харибдой. Оно и Сверх-Я действуют не сообща, а, наоборот, конкурируют друг с другом.
Если субъект поддается власти Оно и, забывая об общественной морали и нравственности, «ныряет» в пучину бессознательных импульсов, он встречается со своей истинной природой, становится самим собой, желающим и удовлетворяющим желания, десоциализованным и аморальным. Вот она – природа человека, его самость, не «загрязненная» никакими общественными нормами и стереотипами: самость, отождествленная с тенью. Однако эта естественность, эта природность не дает человеку жить в обществе, так как она полностью противоречит общественной жизни. То есть, человеческая естественность не способна ужиться с другими людьми и признать моральные конвенции, предписания и общественные договора. Варвар свободен от общественности,… но вместе с тем он свободен от себя самого.
Если же Я поддается власти Сверх-Я, оно растворяется уже не в индивидуальном бессознательном, а в общественной морали, на этот раз наоборот, уходя от своей естественности в наиболее отдаленную точку. И тогда уже человек становится гиперконформным, сверхпослушным… человеком толпы.
Философы постсовременности (Ж. Лакан, Р. Барт, М. Фуко и др.) разрушают монументальность субъекта, лишают его прежней целостности, автономности и осознанности. Постмодернизм с его знаменитой концепцией «смерти субъекта» постулирует субъектную зависимость от языка, текста, общественных норм и предписаний, внутренних инстанций (Оно и Сверх-Я). Причем, перечисляя все эти факторы, детерминирующие и конституирующие субъекта, мы лишь условно поместили их в один ряд. На самом же деле постмодернисты в своей большинстве для обозначения данных факторов используют наиболее обобщенное понятие «текст», которое включает в себя язык, социальные ценности и нормы, неосознаваемые интрапсихические формирования и т.д. М.С. Уваров самым значительным событием постмодерна считает превращение культуры в текст: текстом и письмом – особенно “автоматическим” – замещается онтологическая данность как культуры вообще, так и культуры телесного[91]. Это явление именуется пантекстуализмом, который В.А. Кутырев называет высшей стадией лингвистического моделирования мира и завершающим этапом эпохи логоса[92]. Собственно, текст – это ВСЕ. Текст – синоним бытия, сущего. Текст – не только внешнее по отношению к субъекту жизненное пространство, но и его внутренние структуры, о которых мы уже говорили. Но, с другой стороны, учитывая содержательную объемность понятия «текст», это понятие аннулирует самого себя: будучи ВСЕМ, оно становится НИЧЕМ. Означающее со множественным означаемым, которое жадно протягивает свои руки для того, чтобы охватить все бытие в целом, объять необъятное.
С приходом «Парижа со змеями» субъект не только утрачивает свою прежнюю монументальность, а, наоборот, нивелируется как онтологическая данность. Детерминированный абсолютно всем сущим, он превращается в маленькую точку, лишенную каких-либо координатных измерений, до бесконечности уменьшающуюся в размере путем оказываемого на нее давления со всех сторон, а также и изнутри. И субъект становится лишенным опоры, лишенным самого себя, превращенным в «тело без органов», в утратившее свою субъектную целостность тело, расщепленное на отдельные части, «гуляющие сами по себе».
Может быть, ни Оно, ни Сверх-Я, ни языковые структуры не являются факторами, подавляющими субъектность? Вообще, нет никаких детерминант, формирующих субъектность или сдерживающих ее проявления. Просто НЕЧЕГО подавлять, так как субъектности нет; она есть как фикция, как сугубо теоретическое умопостроение, которому отказано в наличном бытии. Такой вывод появился именно благодаря трудности (или невозможности) дать точное определение субъектности, ответить на вопрос «что это такое?». И поскольку мы не знаем ее сущности, мы не можем четко обозначить то, что влияет на субъектность, делает ее инаковой по отношению к самой себе, или, наоборот, формирует ее, тем самым также лишая ее своей сущности. Вот здесь мы натыкаемся на диалектичность конституирования субъектности – или она есть синоним общественности, противоречащей природе и естественности, или же она находит себя в природной асоциальности, противоречащей индивидуальному развитию.
В общем, субъект – это изобретение, принадлежащее той инстанции, которая его формирует. Ей – этой инстанцией – может быть кто угодно. Партии «Единая Россия» или «КПРФ», учительница начальных классов, какое-нибудь общественное табу или целая система запретов, армейская дисциплина и т.д. и т.п. Эти локусы, источники конституирования субъектности, могут быть абсолютно отдаленными друг от друга своими целями, средствами и результатами деятельности. Они подобны источникам власти, выделяемым М. Фуко – множественным и нигде не локализованным. И каждый из них, руководствуясь своими воспитательным целями, создает своего послушного субъекта. Но конструкт «послушный субъект» едва ли готов занять статус субъекта, так как усилия, затрачиваемые на послушание, идут вразрез с теми качествами, которые присущи настоящему субъекту – осознанность, самодетерминация, целостность мировоззренческой позиции. А можно ли все эти инстанции тоже рассматривать в качестве субъектов (эквиваленты так называемых коллективных субъектов)? И да и нет. Если предположить, что кто-то существует выше их, кто их создал – а такой разум, несомненно, должен быть, - то им всем целесообразно будет отказать в высоком статусе субъекта.
Субъект – это шаткий конструкт, никогда не достигающий своей подлинности, монументальности, но всегда стремящийся к саморазрушению. Он подобен улыбке Чеширского Кота или лицу, начертанному на песке. Субъект – это всего лишь тот, кто, желая убедить себя в собственном существовании, называет себя субъектом.
Мы видим, что радикальное постмодернистское переосмысление субъекта своими корнями упирается в психоанализ, который (и не только психоанализ!) сыграл существенную роль для формирования многих постмодернистских теоретических построений, - в частности, концепции «смерти субъекта». По этому поводу можно иронично заметить: доведенный до крайности фрейдизм приводит к постмодернизму.
Постмодернистский взгляд на субъекта можно охарактеризовать как негативистский и в какой-то степени пессимистический (но вместе с тем сопряженный с иронией), поскольку утверждается отсутствие автономии субъекта. А.В. Зубарева, например, показав связь отчуждения с концепцией «смерти автора», представила культуру постмодерна как отчужденную реальность[93]. Субъект – «продукт соответствующего типа речевой и дискурсивной деятельности, результат того способа конституирования субъективности (т.е. субъектизации), который возможен в рамках данного типа дискурсивности[94]». Субъект полностью зависим от принципов построения языка, от оков цивилизации, от правил и ограничений, от норм, свойственных данному типу культуры, от десубъективирующей роли идеалов потребления, которые превращают субъекта в систему знаков, и благодаря таковой зависимости он теряет свою идентификацию с самим собой. Субъекту «отказано быть активным преобразователем мира: ему следует вписываться в него, но не навязывать себя»[95]. Почти ту же самую культурную детерминированность утверждает А. Колесников, когда говорит о том, что сознание субъекта в постмодернизме определено пограничными социокультурными состояниями, а в герменевтике, структурализме и постструктурализме – языковыми и другими структурами бессознательного порядка[96]. Список можно продолжить таким направлением философии, как субстанционализм, который также уничтожает человеческую автономию и самодеятельность путем постулирования «заданности» всех форм человеческой жизнедеятельности. Однако мы не станем вслед за автором совершать четкое разделение этих направлений философской мысли, равно как и свойственные им виды детерминации субъекта; вместо этого мы склонны рассматривать эти направления в их единстве и синтезе, и именно данное единство подразумеваем под термином «постмодернизм».
Многие философы-постмодернисты (в первую очередь Ж. Делез), нивелируя суверенность субъекта, абсолютизируют шизофрению как главное свойство истинной субъектности, свободной и революционной. Лоно безумного, иррационального способствует достижению субъектом относительной суверенности от норм идеологии (Ж. Делез, Р. Барт, Ю. Кристева, М. Фуко). Лишь иррациональное способно сопротивляться власти и навязанной идеологии.
Так, оспаривается автономность и суверенность субъекта из-за всесильности не только культуры и непосредственно связанных с ней дискурсивных практик (внешняя детерминация), а также бессознательного (внутренняя детерминация). Сила сознания настолько умаляется, насколько абсолютизируется мощь бессознательного, мощь неосознаваемых потоков, которые, в силу своей скрытности от сознания, не принадлежат субъекту: ведь субъект – в первую очередь существо осознающее. Ж. Лакан в своих работах использует термин «субъект бессознательного», а само бессознательное уподобляется языку [97]. А.Ш. Тхостов вообще проводит определенное тождество между истинным субъектом и психоаналитическим понятием «Оно»[98]. Психологи (А. В. Брушлинский, Б.Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн и др.) согласны с позицией, наделяющей субъекта сознанием, поскольку они рассматривают сознание как одну из основных характеристик субъекта. Но исследователи в области психологии не приемлют такой предельной абсолютизации бессознательного, сила которого нивелирует действие сознания. Следует заметить разницу психологов и философов во взглядах на субъектность.
В той же мере прослеживается значительное мировоззренческое различие между представителями феноменологического и постмодернисткого подхода в психологии: первые критикуют вторых за нигилизм, редукционизм, пессимизм и скептицизм, вторые критически настроены по отношению к первым за веру в возможность точной репрезентации и описания переживаний, в существование «я» и субъектность как реальных структур[99]. То есть, наблюдается определенная борьба идей в отношении субъекта: одни отстаивают его суверенность, в то время как другие его разрушают.
С точки зрения постмодерновской концепции, поистине свободный индивид, настоящий субъект, - это шизофреник. Он свободен от всякой ответственности и от довлеющих социальных норм, и он уже не боится сойти с ума[100]. Но, с другой стороны – психологической, – субъектность как раз определяется высокой степенью ответственности за свои поступки; если человек выступает творцом своей жизни, то его ответственность за свои деяния возрастает. По Ж.Делезу, шизофрения, будучи высшей формой безумия – есть главное освободительное начало для личности и главная революционная сила общества[101]. «Болезненность индивида, возрастание амбивалентности и противоречивости внутри его сознания, отказ от рациональности и сознательности приводят к свободе», - пишет Э.А. Усовская[102]. Рациональность, согласно теоретикам шизоанализа, выступает репрессивным механизмом, сдерживающим свободную деятельность машины желания. В отличие от психологов-клиницистов, которые видят в шизофрении только патологию, Ж. Делез романтизирует это психическое расстройство, которое он таковым не называет. Для него это – вершина проявления субъектности. Свободный субъект, по Делезу и Гваттари, - это деконструированный субъект, сознательно отвергающий общественно-культурные каноны в угоду своему естественному производящему желанию, то есть бессознательному. Самотождество личности мимолетно: субъект находится на окружности круга, центр которого занимает не Эго, а машина желания. Шизофреник не боится стать безумным, он ни на что не просит позволения[103]. Это положение кардинальным образом расходится с классической концепцией шизофрении как болезни. Но его едва ли можно назвать пессимистичным – скорее ему больше подойдет термин «ироничное».
Если – начиная с декартовского cogito ergo sum – процесс субъективации осуществлялся в актах самосознания, то теперь это происходит через герменевтику желания. Если декартовский субъект был осознающим, то постмодернистский и постпсихоаналитический субъект бессознательный. Если в новоевропейской философии объективность мира не-Я порождалась субъектностью, то современный дискурс утверждает обратную взаимосвязь, согласно которой объективность (внешнее) порождает субъектность. В этом заключена деконструкция не только субъекта, но и субъект-объектных отношений.
Для Ю. Кристевой субъект представлен не в целостности, а в расщепленности: сознание человека расколото изначально, а субъектность – совокупность непостоянных идентичностей. Говорящий субъект всегда расщеплен между сознанием и бессознательным, физиологией и социальностью, и поэтому не может быть сведен в единую фигуру[104]. Субъект – явление внутренне противоречивое, находящееся на грани психической деформации и патологии, и стремящееся при этом восстановить свою целостность. Он дважды детерминирован: как языковыми шаблонами правящей идеологии (если интересы человека противоречат интересам идеологии, то его сознание проявляет деструктивный иррационализм по отношению к себе), так и бессознательным (иррациональным) словотворчеством. То есть, первая детерминированность (символическая) связана с социальными ограничениями, а вторая (семиотическая) связана с действиями бессознательного, прорывающими эти ограничения.
По Ж. Лакану, субъект не может быть строго репрезентирован, так как эго человека нестабильно, и оно лишено ряда неизменных характеристик. Субъект децентрирован, он не может быть целостным (индивид), а способен видоизменяться и фрагментироваться (дивид). Субъектность полностью реляционна, она исходит исключительно из практики взаимоотношений субъектов (или из практики соотношения представления о себе и других) и выявляется посредством принципа различия, оппозиции «другого» по отношению ко «мне». Субъектность – действие означающей системы, которая существует до индивида и определяет его культурную идентичность. Значит, субъект полагается только лингвистически, его порождение и существование предопределяется и поддерживается речью, вне которой человека быть не может[105]. Лакан выделяет речь и язык как социокультурные интерсубъективные факторы, которые первичны по отношению к человеческой субъектности. Субъектность существует внутри непрерывного символического порядка, состоящего из слов, замещающих реальность, и Лакан ограничивает существование человека одним миром, одним видом бытия – лингвистическим, речевым, за пределами которого человека нет. Субъект имеет истории, которые, в процессе рассказывания, меняются и переопределяют структуру субъектности. Появление субъектности предшествует появлению индивида, и этот феномен определяется в ограниченности рамок соответствующего типа культуры. По Лакану, субъекта формирует язык, поэтому субъект – это атрибут культуры, которая может говорить посредством субъекта; а эго – это в первую очередь функция культуры, а не субъект самосознания. На первое место ставится субъектная активность, направленная на преодоление зависимости от языка. Лакан определяет субъекта через «онтологическую неполноту», так как он всегда включен в непрерывный символический порядок отчуждений и сублимаций, а значит, конституируется на пересечении различных символических форм – норм, правил и запретов[106]. А.А. Брегадзе вслед за Лаканом пишет «о динамичности субъекта, его вечном «пребывании в пути»[107], и задается вопросом о возможности увидеть наличие в субъекте неизменного феномена, который и придает форму его бытию, то есть сущности. Автор склоняется скорее к отрицательному ответу на данный вопрос. Такого же мнения придерживается Ж. Делез, превращая субъекта в произвольные неличностные и доиндивидуальные единичности – сингулярности[108]; делезовский субъект номадичен, противопоставлен индивидуальной фиксированности и модернистскому эсссенциализму.
Учитывая концепцию Лакана, субъектностью можно наделять язык и культуру, но не самого субъекта. «Языковая структура кажется самодостаточной и вполне может существовать и без человека — носителя данной структуры»[109], - пишет Е.М. Воронова. И вообще, при рассмотрении всего поля детерминаций субъекта в постмодернизме, следуя принципу деконструкции, имеет смысл придать статус субъектности именно этим детерминациям, но не тому лицу, которое они определяют.
Заметим, что Лакан употребляет понятия «индивид» как целостный субъект и «дивид» как фрагментированный и многоликий субъект. В психологической науке индивид и субъект вообще не имеют никакой тождественности несмотря на то, что в терминологическом аппарате психологии трудно проследить чистоту. Например, Б.Г. Ананьев считал индивида совокупностью возрастно-половых и конституциональных особенностей, высшая интеграция которых представлена в темпераменте и задатках. Субъект же, по Ананьеву, - обладатель сознания как отражения объективной деятельности и осуществитель деятельности как преобразования действительности: высшая интеграция свойств субъекта представлена в творчестве[110]. Здесь мы видим некоторую противоречивость во взглядах на индивида по крайней мере именно этих авторов (Лакана и Ананьева). Хотя, надо сказать, в психологии также нет четкой позиции относительно определения понятий «индивид» и «субъект» и их соотношения между собой; если один автор придает каждому из этих понятий одно значение, то другой – иное (С.Л. Рубинштейн, к примеру, почти синонимирует эти понятия, не проводя между ними никакой разделительной линии[111]).
Что касается расщепленности субъекта, то мнение психолога А.М. Славской отчасти близко постмодерновскому. Правда, Славская декларирует не неизбежную расщепленность, а возможность достижения целостности, что создается посредством интерпретации. Она считает, что с помощью интерпретации личность способна сконструировать свой внутренний субъективный мир, который сам выступает интерпретацией своего «Я», своей тождественности и изменчивости в контексте жизненных изменений. Интерпретация связывает в единую целостность разные уровни «Я»: бессознательный и сознательный. «Интерпретируя, субъект осуществляет интеграцию внутреннего «Я», создавая не просто картину мира, а «Я-концепцию» во множестве ее проявлений, объективации в деятельности, общении, решении жизненных противоречий, устанавливая прямую и обратную связь между ними»[112]. Таким образом, субъект может репрезентировать свою позицию – жизненную и мировоззренческую, что ведет к достижению им определенности и возможности выражения этой определенности в жизненных проявлениях. Под интерпретацией А.М. Славская понимает способность сознания личности выявлять и определять ее новое положение в изменяющихся обстоятельствах. Интерпретация сохраняет определенность субъектной позиции в условиях изменяющегося мира, и в то же время не только сохраняет старое, но и выявляет новое положение. Личность обладает определенностью, но она должна заново искать эту идентичность из-за изменения внешних условий и самой себя. Славская придает интерпретации настолько серьезное значение, что вводит новое понятие – субъект интерпретации. По ее мнению, субъект интерпретации – это автор своей концепции, объективирующий ее в разных жизненных контекстах (в науке, искусстве, жизни в целом), исследователь, ищущий новое в окружающем мире, личность, понимающая и объясняющая все новое, перед которым ее ставит жизнь. Итак, Славская принимает наличие определенности (целостности) субъекта, но также она принимает факт о его расщепленности в моменты происходящих изменений. Таким образом, ее позиция в какой-то степени близка к постмодерновской (Кристева, Лакан), но носит значительно менее радикальный характер.
И.П. Ильин также говорит о важности интерпретации, обращаясь к постмодерновскому контексту свободы субъекта. Собственно, эта свобода сводится к свободе интерпретации, наделяющей индивида возможностью создавать новые смыслы[113]. Можно сказать, что мнения Славской и Ильина очень близки: различие их сохраняется постольку, поскольку оба автора в своем анализе исходят из различных отраслей научного знания.
Однако само понятие интерпретации в постмодернизме получило свое значение. Интерпретация – это возможность на основе одного текста создавать другой. Читатель, читая, воспринимает то, что написал автор, не за чистую монету. Читатель перетрансформирует в своем восприятии и мышлении оригинальный текст так, что тот – в результате деконструкции – перестает быть тождественным самому себе и становится текстом не автора, а уже читателя. Собственно, сам читатель становится его автором. Мы постоянно интерпретируем и не интерпретировать не можем, равно как не можем не думать. В каждое увиденное и услышанное сообщение мы добавляем некий свой смысл. Каждый текст – это интерпретация предыдущего, а предыдущий – существовавшего до него. И так происходит бесконечная цепь следов, отсылок и цитат. Пожалуй, интерпретация – это единственное, чем занимается человек в коммуникационном процессе…, и не только в коммуникационном. Следовательно, понятия субъекта и автора вытесняются понятием интерпретатора.
Несложно обратить внимание на тот факт, что все философы - представители постмодернизма (Делез, Лакан, Кристева и т.д.) говорят о мнимости субъекта, о его несостоятельности как такового, о его децентрации. Конечно, их взгляды в некоторых аспектах различны, но зачастую они дополняют друг друга, а не противоречат один другому.
Однако К. Штекль пытается уберечь постмодернистскую философию от обвинений в негативизме по отношению к субъекту, считая, что она (эта философия) не только производит деконструкцию субъекта, но идет еще дальше, наполняя смыслом пустое место деконструированного субъекта; на его место приходит полюсность «человек-субъект и сообщество», и эту связку нельзя разорвать, оторвать оба элемента один от другого – ни одному из них нельзя получить статус исходного пункта, сущности «в себе» (субъект находится в единственном множественном числе, не растворяясь в сообществе)[114]. Нам представляется, что К. Штекль, выражая подобные мысли, все-таки несколько отходит от характеристик искомого постмодернизма, который действительно практически не давал субъекту никакого права на существование. Ее взгляды более похожи на классические социально-психологические теории, утверждающие развивающий потенциал социализации для субъекта, который не может развиваться вне сообщества, и он идентифицирует себя с последним по принципу «Мы».
Вся постструктуралистская мысль доказывает невозможность независимого индивидуального сознания, вместо которого субъект бессознательно обусловливается в процессе своего мышления языковыми структурами, детерминирующими его мышление[115]. И когда субъект осознает свою зависимость, он встает на путь относительной автономности, то есть осознание отсутствия свободы ведет к ее потенциальному появлению. И так происходит постоянная борьба с самим собой, посредством которой субъект, рефлексируя, преодолевает самого себя. По нашему мнению, одного только этого осознания не достаточно. Автономность субъекта достигается выработкой собственного мировоззрения и жизненной позиции, которая позволит ему сказать «Я сам».
Э.А. Усовская также говорит о зависимости индивида от языка и от текста, которым является весь мир, все бытие, культура: «человек, говорящий на языке, в котором сказывается бытие, выглядит как совокупность речевых практик и сам ткет свой текст, пишет о себе, переписывает себя и свою собственную жизнь»[116]. Заметно, что оба российских исследователя (Ильин и Усовская) сходятся во мнении об иллюзорности свободы субъекта, утверждая его зависимость от языка. Эту же зависимость отмечает ряд других российских авторов[117]. В. Декомб предпочитает использовать термин «структура», которая детерминирует человека[118]; под структурой им понимается именно языковая структура. «Важна идея, фраза, а не тот, кто ее сказал. В пространстве постмодернизма между собой состязаются тексты и мысли, а не авторы», - пишет М.С. Гусельцева, которая видит в психологии будущего постмодернистскую (плюрализм мнений, многоголосие) основу[119]. Если первоначально считалось, что человек мыслит сам, то впоследствии точка зрения на человеческое мышление изменилась. Мыслит не человек, а само мышление через человека, а человек лишь – носитель мышления, как утверждал Щедровицкий, которого В.А. Кутырев называет виднейшим представителем структурно-лингвистического поворота в его стадии радикального (де) конструктивизма[120].
Понятие текста представляется нам, во-первых, более широким, чем понятие языка, а во-вторых, широта постмодернистской категории «текст» вообще ведет к нивелированию самого понятия. Если текст – это абсолютно все, то есть бытие во всем его многообразии, то оно лишается своего смыслового содержания и становится ничем.
Из сказанного следует, что субъект зависит буквально от всего, что его окружает (внешняя детерминированность), а также и от самого себя (внутренняя детерминированность). Но при более приближенном рассмотрении внутренняя зависимость становится внешней, так как даже мышление, всегда считавшееся собственной привилегией субъекта, выходит вовне, сливаясь с культурой.
Рассматривая теорию детерминированности человека бессознательным (как индивидуальным, так и коллективным), языковыми структурами, текстом, можно провести параллель с религиозной концепцией, утверждающей отсутствие свободы воли субъекта. Так, согласно раннехристианским традициям, утверждалась свобода божьей воли и автоматически умалялась свобода воли субъекта, так как побуждения и поступки человека предопределены божьим волением. Теперь мы видим еще одну детерминанту, проявление надиндивидуальной воли, ликвидирующее индивидуальную субъектность, - Бога. Хотя Божественную сущность можно также уподобить тексту, о воздействии которого на субъектность говорят постмодернисты (если все есть текст, то и Бога можно текстуализировать), а божью волю – уподобить собственно воздействию этого текста на субъекта, по результату которого последний теряет свою свободу и самость.
Раскрывая постмодерновскую теорию субъектной зависимости, целесообразно обратиться ко взглядам М. Фуко, - французского мыслителя, вклад которого в анализ интересующей нас темы огромен. Фуко рассматривал субъекта преимущественно в контексте сексуальности, власти и знания.
Воля к знанию, по Фуко, порабощает субъекта, лишает его свободы. Это связано с тем, что воля к знанию, являясь завуалированной формой воли к власти, неспособна постичь абсолютную истину. Любое знание основано на несправедливости, согласно которой ни у кого из познающих субъектов нет права на обоснование универсальной истины, а инстинкт к знанию зачастую может быть губительным для человеческого счастья[121]. Здесь, судя по всему, речь идет именно о познающем субъекте.
Специфика понимания власти у Фуко заключена во власти "научных дискурсов" над сознанием человека. Научное знание, истинность которого сомнительна, навязывается сознанию человека как "неоспоримый авторитет", заставляющий мыслить заранее готовыми понятиями и шаблонами. Субъект формируется благодаря власти как полностью подчиненное ей образование. Власть, по Фуко, одновременно видимая и невидимая, скрытая и присутствующая.
В ранний период своего творчества Фуко представлял индивидуального субъекта просто как пересечение дискурсов, как пустую сущность. Под дискурсом понимается «совокупность речевых практик, отражающих специфику сознания, обусловленного преобладающим типом рациональности»[122]: дискурс обусловлен социокультурной спецификой речи, характерной для определенной эпохи. Потом, в более поздний период своей научной деятельности Фуко утверждал конституированность субъекта властными отношениями, а не просто лингвистической детерминированностью, о значении которой он говорил ранее. Власть создает субъектов с целью управления ими. В любом случае субъект – всегда «сделанный», а не суверенный.
Основная задача Фуко – это исторический анализ модусов, благодаря которым человек становится субъектом. Философ выделяет три вида таких модусов[123]:
1) модус, придающий себе статус наук (объективация субъекта говорящего в филологии и лингвистике; объективация субъекта производящего, то есть трудящегося);
2) модус «разделяющих практик» (разделенность субъекта внутри себя или отделенность его от других, что объективизирует его; и примерами этого разделения/отделения могут послужить нормальные и безумные, здоровые и больные, законопослушные и преступники);
3) модус самопревращения человека в субъект (эта самотрансформация происходит в контексте сексуальности, где актуален вопрос «каким образом человек приходит к признанию себя субъектом сексуальности?»). Именно здесь мы можем обозначить параллель с современной массовой культурой, через некоторые формы которой (ток-шоу, биографии, мемуары, интервью) субъект признается в интимных подробностях своей жизни.
Одна из центральных категорий для Фуко, выступающая орудием власти, является признание (или исповедь). Признание необходимо власти для того, чтобы человек (преступник, подозреваемый или вообще любой гражданин) как субъект признания чувствовал за собой вину (реальную или квазиреальную) и тем самым склонял голову перед властью, отдавая себя в ее руки. Постоянные нарушения порядка необходимы власти, так как тогда последняя доказывает свою значимость путем конституирования субъекта порядка. Складывается впечатление, что по Фуко настоящим субъектом является тот, кто противостоит власти (или тот, кому власть противопоставляет себя). Но возникает вопрос: какой именно власти? Появление этого вопроса вызвано тем, что Фуко наделял властью не какую-нибудь одну (господствующую) инстанцию, а абсолютно все элементы общественного устройства, которое, в свою очередь, представляет собой поле борьбы разнообразных властей. И у каждой из них своя идеология, свой вектор направленности. Поэтому все-таки мы не можем сказать, что субъект – это тот, кто противопоставляет себя власти, так как власти – в понимании этого термина М. Фуко – никто себя противопоставлять не может; власть исходит отовсюду и находится везде.
Фуко рассматривает субъекта не как изначальную данность; «его [субъекта] действия в мире и те смыслы, которые он вносит в этот мир, обусловлены системой социальных детерминаций»[124]. То есть, субъект не существует в виде ничем необусловленного явления, а создается социальными нормами, науками, властью и т.д. – культурой в целом. Это представление о субъекте близко выделенной нами предикативной форме понимания субъекта.
Сексуальность – одна из основных категорий в концепции субъекта у Фуко, с которой он связывал развитие субъектности. «Естественная» сексуальность человека сформирована благодаря феномену «дисциплинарной власти». Такой вывод делается из-за того, что сексуальность (по Фуко) представляет собой результат развития системы контроля за индивидом. Сексуальность – следствие воздействия этой контролирующей системы на сознание общественности, а не явление природы.
В своих работах[125] Фуко пишет о христианской исповеди, которую называет одним из механизмов власти, с помощью которого узнавались не только «греховные» деяния человека, но и его помыслы. Рядом с категорией исповеди философ ставит и сеансы психоанализа, которые преследовали те же самые цели. Г.Г. Почепцов вообще институт исповеди называет первым вариантом психоанализа[126]. Дискурс о «греховных помыслах», по мнению Фуко, сформировал представление о сексуальности и послужил развитию интроспекции как способности субъекта наблюдать содержание своего сознания. Появление самоконтроля и самосознания, в свою очередь, повлекло за собой развитие субъектности и «Я-концепции» человека. Таким образом, исповедь как средство власти породило субъектность, в чем заключается позитивный аспект власти. Напомним, что власть, по Фуко, сама по себе децентрирована, она не исходит от какого-то одного строго локализованного источника, а находится повсюду и, охватывая абсолютно все, исходит отовсюду.
«Для Фуко с течением времени стало все более очевидным, что чрезмерный акцент на сверхдетерминированности человека и его сознания фактически снимает и сам вопрос о человеке» [127]. Естественно, если исследователь, изучая какой-либо научный факт, приходит к мнению о его отсутствии, сама проблема его изучения закономерным образом исчезает.
М. Фуко как и многих других представителей постструктурализма и постмодернизма, изучающих понятие субъекта, интересовал вопрос о безумии, о инаковости. Именно через разрешение этого вопроса они подходили к постулированию содержания категории субъекта.
По Фуко, грань между нормальным и сумасшедшим исторически подвижна, и иногда в безумии можно увидеть истину, неподвластную разуму. В своих работах[128] Фуко отлично демонстрирует нам динамику взглядов на безумие, изменение общественных представлений о безумце и преступнике, трансформацию отношений общественности к деклассированным элементам, проходящую под влиянием хода истории; благодаря этой динамике наблюдается подвижность рамок, заключающих внутри себя норму, а также подвижность границы, разделяющей нормальное и безумное. Причины возникновения патологии психического, по мнению Фуко, кроются в исторически сложившемся отношении к человеку безумия и человеку истины, и на каждом историческом этапе это отношение свое, отличное от предыдущего.
Фуко несколько романтизирует безумие, связывая его со свободой субъекта. Для него свобода – это отсутствие рациональности и сознательности, это нечто непознаваемое, то есть само безумие, которое он именует «предельной, чистейшей субъективностью», однако, не позволяющей человеку приобщиться к миру[129]. Как мы понимаем, Фуко придает аморальное и асоциальное значение проявлению полной субъектности, из чего следует смелое и несколько экстравагантное предположение, логически выведенное путем интерпретации идей французского философа: чем более социализирован человек, тем менее способен он к истинно субъектному проявлению, тем менее он безумен, а безумие выражает истину человека.
Субъект предстает в понимании Фуко также в виде автора, в отношении которого философ выступил с решительной критикой в статье «Что такое автор».
Произведение, то есть то, что написал автор, несомненно, является продуктом его деятельности, а письмо – это непосредственно деятельность автора. Но если произведение – результат работы автора, пишущего субъекта, то возникает двоякая неопределенность: если человек не является автором, то можно ли назвать написанное или сказанное им произведением, и все ли из того, что автор сказал и написал, составляет произведение. И Фуко здесь задает вопрос: «а что такое произведение и где его границы?». Пытаясь ответить, он приходит к абстрагированию произведения как продукта субъектной деятельности. Когда мы берем во внимание какое-то конкретное произведение, как мы определим те рамки, которыми оно отделено от всего остального, не являющегося продолжением данного творения? Если мы обратим внимание на «Сумерки идолов» Ницше, то, имея на руках опубликованный вариант этого философского трактата, мы все равно не сможем с должной уверенностью ответить, где он начинается и где он заканчивается. Да, его начало – первая страница книги, а конец – последняя, но является ли частью произведения вычеркнутое самим Ницше или приписанное им на полях? А если внутри первоначальной рукописи мы находим медицинскую справку, счет или какой-то другой документ, семантически не имеющий никакого отношения к произведению, то все-таки что это, если не его часть? И таким образом, используя постоянно оставляемые творцом следы, мы можем «расширять» авторское творение до бесконечности. Фуко задается вопросом о результате деятельности пишущего субъекта, и приходит к мнению, что этот результат невозможно измерить, равно как невозможно с абсолютной точностью измерить объем текста, написанного автором. «Среди миллионов следов, оставшихся от кого-то после его смерти, - как можно отделить то, что составляет произведение?»,[130] - вопрошает Фуко, утверждающий отсутствие теории произведения, а значит, и творческой деятельности автора. Философ провозглашает равнозначную проблематичность как понятия «произведения» в его обозначающем единстве, так и индивидуальности автора.
Французский мыслитель пишет об авторе не как об определенном человеческом существе – творце, не как о творящем индивиде, а как о функции. Для Фуко субъект – это «переменная и сложная функция дискурса»[131], а не олицетворение изначального основания. Автор же, в отличие от субъекта (и здесь мы видим смысловое разделение этих понятий), является одной из возможных или необходимых спецификаций субъекта как функции. Фуко говорит, что не существует абсолютного субъекта, но все-таки субъект есть: субъект желания, дискурса и т.д.[132]. То есть, субъект «чего-то» существует, но нет собственно субъекта, отделенного от этого «чего-то», и эта мысль укладывается в описанное нами представление о субъекте как предикате, а не как об антропологическом образовании. Ну а функция, функция автора «не отсылает просто-напросто к некоему реальному индивиду – она может дать место одновременно многим Эго, многим позициям-субъектам, которые могут быть заняты различными классами индивидов»[133]. То есть, при написании произведения существует не цельность одного-единственного автора как единичного творца, а его множественность, множественность его Эго. Например, при рассмотрении математического трактата одно Эго говорит об обстоятельствах написания работы, которое не является тождественным тому Эго, которое приводит доказательство, и не тождественно Эго, делающему выводы в конце работы. В своем двадцатишестилетнем возрасте мы не только нетождественны себе-ребенку, но и себе двадцати пяти лет от роду, так как вся наша жизнь – это последовательная смена наших «я». На эту смену накладывает отпечаток абсолютно все, что происходит с субъектом: система образования, профессиональные требования, общественные ожидания, увеличение темпа жизни в общем (последнее хорошо описано Э. Тоффлером), чтобы идти в ногу с которыми необходима соответствующая скорость изменения личности современного человека. И здесь – в теории множественных идентичностей – мы наблюдаем практически единую основу позиций Фуко, Кристевой и Лакана, утверждавших расщепленность субъекта. Похожие идеи мы находим у Ж. Бодрийяра, утверждавшего, что части нашего «я» (тела, вещей, языка) умирают при жизни, идентичность субъекта распадается ежеминутно; субъект – не данное, а перераспределяемое в бесконечном цикле, движимом смертью[134]. Так что воззрения постмодернистов относительно «нецелостной» смерти субъекта, относительно его смерти при жизни, совпадают. Любой переход, любое изменение следует рассматривать как маленькую смерть (и маленькое рождение).
Фуко разделяет понятия «имя собственное» и «автор» на следующих примерах: частное письмо имеет подписавшего (имя собственное), но у него нет автора, равно как у контракта есть поручитель, но также нет автора[135]. То есть, одни дискурсы наделены функцией «автор», а другие – нет. С помощью этой функции появляется возможность классифицировать тексты (их группировка и разграничение, определение их гомогенности и преемственности), их присваивать (переводить в форму собственности). Также автор как таковой выступает в роли некоторого авторитета, индикатора обоснованности какой-либо написанной теории, или просто он обеспечивает наделение теории именем. Как писал Ж. Деррида, одно только письмо, именуя автора, может наделить его существованием[136].
Фуко вводит понятие «основатель дискурсивности», которое выражает некую абсолютизацию автора, его причастность не только к написанию своих собственных творений, но ко всей дискурсивности в целом. Под дискурсивностью понимается «возможность и правило образования других текстов»[137]. Автор ничем не примечательного романа, текста, в котором нет принципиальных различий от других текстов, едва ли является автором даже только этого произведения, а основатель дискурсивности – автор самого стиля, в котором написано его собственное произведение и множество произведений, созданных позднее кем-то другим. К таким личностям Фуко относит Фрейда и Маркса, которые «открыли пространство для чего-то, отличного от себя и, тем не менее, принадлежащего тому, что они основали»,[138] которые создали принципиально новые возможности интерпретации[139]. Основатели дискурсивности – это сверхсубъекты, это производители революции в какой-то сфере (в искусстве, в науке, в философии). Они создали возможность формулировки своих законов и правил, но и создали возможность теорий, отличных от тех, которые они установили (Фрейд, например, не просто создал психоанализ, но и дал толчок другим направлениям психотерапии, основанным на его подходе, но во многом противоречащим первоначальным (фрейдовским) психоаналитическим положениям)[140]. Из всего сказанного следует вывод о том, что функцию автора нужно рассматривать не только на уровне книги или нескольких книг, обозначенных одной фамилией, но и на более масштабном уровне больших групп разных текстов или целых дисциплин, существование которых обусловлено широким полем интерпретаций текста отца-основателя, на которое все они ориентируются и опираются. Поэтому все, что сказано фрейдистами после смерти самого Фрейда, можно отчасти заверять его собственной подписью. И не может быть одного-единственного правильного комментария текста основателя дискурсивности, так как его дискурс в прочтении последователей можно представить в виде волн, расходящихся в разные стороны от брошенного в воду камня. И каждый последователь или каждая школа последователей, «ловят», «подхватывают» какую-то одну волну, но не объемлют их все. Из-за этого и возникают вечные споры между пост-марксистами или между пост-фрейдистами, когда они обвиняют друг друга в некомпетентности и в неправильном толковании ортодоксального учения.
Пожалуй, понимание субъекта (автора) в трудах французского мыслителя можно несколько метафорически охарактеризовать словами Беккета, позаимствованными Фуко и использованными им в «Что такое автор»: «Какая разница, кто говорит, - сказал кто-то, - какая разница, кто говорит».
Все-таки не стоит напрямую понимать значение термина «основатель дискурсивности». Конечно, такое имя мы можем дать любому гению – настоящему новатору в какой-либо области культуры (наука, философия, искусство и т.д.), но тем не менее не существует абсолютного новаторства, оторванного от прошлого человеческого опыта и уже накопленных культурой достижений. По замечанию Ж. Деррида, изобретатель – будь он именно таким, - должен был бы создать свой собственный язык, лексику и синтаксис. Любой новатор все-таки является бриколером – человек, пользующийся подручными средствами, созданными до него. И вместе с тем любой дискурс – в некотором смысле бриколаж, результат деятельности бриколера. Таким образом, абсолютного инженера, изобретателя, противопоставляемого бриколеру, не существует[141]. Именно поэтому, если мы и пользуемся такими терминами, как «новатор», «изобретатель» или «основатель дискурсивности», имеет смысл наделять их относительным значением, в противоположность любой абсолютизации.
Несмотря на постоянные изменения отношения к субъекту у Фуко, несмотря на происходящие в его творчестве пересмотры прежних позиций и взглядов относительно субъектности, французскому философу не удалось должным образом решить вопрос субъектной автономии. Это объясняется тем, что постструктурализм как философское учение не утруждает себя созданием позитива как такового, а более всего занимается критикой, приобретая облик некоего теоретического нигилизма. По Фуко, субъект – это носитель той идеологической позиции, которая предписывается ему обществом, то есть существо подневольное и предикативное.
Если в ранних работах Фуко автор, то есть субъект, был лишен какой-либо свободы и независимости, то в поздний период творчества философ наделяет субъекта некоторой степенью автономности. Теперь субъект предстает в роли того, кто воспроизводит социальные и дискурсивные практики. Таким образом, или Фуко отходит от ортодоксального постмодерновского нигилизма, или постмодернизм перестает быть предельно нигилистическим. Тем не менее постмодерн как учение, представляемое через призму радикального скептицизма, в некоторых аспектах отдаляется от этого радикализма, также как модерновский психолого-педагогический дискурс в минимальных формах иногда приближается к постмодернистскому радикализму. Но чтобы наиболее полно рассмотреть понятие автора как субъекта письма, нам следует обратиться к еще одному великому мыслителю современности – Ролану Барту.
Литература представляет собой совокупность так называемых «общих мест», то есть общеизвестных фраз, играя которыми, образуя разные конфигурации, автор складывает свое произведение. Но любая конструкция, любая конфигурация независимо от своей оригинальности – это набор готовых элементов, предложенный в индивидуализированной форме. Не зря Барт называет литературу «языком других». Если в обыденной жизни человек посредством языка «изображает» свою субъектность, то писатель «разыгрывает» свою уникальность при помощи заранее предзаданного литературного письма, в пленника которого он превращается. Автор, по замечанию Барта, лишен отцовской власти над произведением[142]. Таким образом, абсолютного авторства не существует, так как любое произведение уже изначально помещено в пространство культуры, где «все уже сказано»; и любой текст выступает неким интертекстом, в котором звучит «гул языков» предшествующих эпох, стилей и т.д.[143]. Примерно о том же говорил Деррида, используя слово «бриколер».
В письме уничтожена суверенность голоса, источника. Письмо, для Барта, - это «та область неопределенности, неоднородности и уклончивости, где теряются следы нашей субъективности, черно-белый лабиринт, где исчезает всякая самотождественность, и в первую очередь телесная тождественность пишущего»[144]. Письмо начинается тогда, когда голос отделяется от своего источника, и автор умирает (конечно, здесь имеется в виду не физическая смерть автора, а скорее смерть его индивидуальности, инаковости); письмо изначально обезличено. Во время письма действует уже не «я», а сам язык. «Автор есть всего лишь тот, кто пишет, так же как «я» всего лишь тот, кто говорит «я»; язык знает «субъекта», но не «личность», и этого субъекта, определяемого внутри речевого акта и ничего не содержащего вне его, хватает, чтобы «вместить» в себя весь язык, чтобы исчерпать все его возможности»[145]. Таким образом, субъект выступает лишь на уровне предиката (субъект «чего-то», то есть языка, как у Фуко), но не обнаруживает никаких «своих» качеств, отличающих его от других субъектов. Таким же образом Барт определяет писателя, который всего лишь исполняет функцию, он – участник институциональной деятельности, которая надиндивидуальна, а литература указывает не на присутствие субъекта, а, наоборот, на его отсутствие [146]. Здесь мы видим еще одно сходство с позицией М. Фуко – в определении автора как функции литературной деятельности.
Заметим, что Барт, по сравнению с психологами, редуцирует явление субъекта. Если представители психологической науки уделяют этому явлению намного большее значение, чем личности, ставят его в привилегированное положение, называют субъектный уровень развития более высоким, чем личностный, то Барт идет от противного. Для него субъект – это тот, кто осуществляет деятельность по написанию текста[147], это субъект речи, который обезличен. А обезличенность субъекта, как считают психологи[148], невозможна, поскольку уровень субъектных качеств кумулятивным образом включает в себя уровни индивидных и личностных характеристик; по С.Л. Рубинштейну, например, субъект является высшим уровнем развития личности. С другой позиции, личность и субъект не вступают в иерархические отношения, а занимают в структуре человека одинаковое положение, но тем не менее, как утверждает А.М. Трещев, лишить личность субъектности или субъекта личности невозможно. К. Уилбер называет стремление постмодернистов уничтожить индивидуального субъекта его сведением к интерсубъективным структурам, когда говорит уже не сам субъект, а через него говорят «безличный язык и межличностные лингвистические структуры»[149]. Автор с иронией пишет о концепции отсутствия всякого «я» и присутствия вездесущего «мы», о наличии интерсубъективных и лингвистических структур вместо индивидуальных субъектов (именно так он понимает постмодерновскую теорию «смерти субъекта»). В общем, мы снова замечаем разногласия в философских (постмодернистских) и психологических (модернистских) взглядах на категорию субъекта.
Барт утверждает, что современный скриптор не предшествует своему тексту, а он сам находится внутри письма, до и вне которого вообще нет бытия. Да и как он может предшествовать тексту и претендовать на владение им, - спросим мы, - если сам текст представляет собой гиперцитатность, отсылающую к огромному множеству культурных источников, написанных задолго до рождения этого автора? Эта позиция очень близка концепции Фуко о том, что вся жизнь автора – это текст, это одно большое произведение. Э.А. Усовская отмечает, что авторская функция – это просто посредничество между текстом и реципиентом; здесь будет уместной формула: текст – автор – реципиент – текст[150]. Так, технический манифест футуристической литературы призывает окончательно освободить литературу от «я» автора, место которого должна занять неживая материя[151].
Представители философского постмодернизма, несмотря на их нигилистическую и в целом негативистскую трактовку субъекта, все-таки видят в нем творческое начало: достаточно хотя бы взглянуть на понятие «основатели дискурсивности», которое так или иначе сопряжено с творчеством (ведь невозможно дать толчок новому дискурсу, не прибегая к креативности). «Творчество и игра, связанные воедино, так или иначе нацелены на обретение человеком свободы»[152]. Игре здесь придается не общепризнанное психологическое значение, а культурное; собственно, игра и выступает синонимом культуры, которая разыгрывается. А творчество – это не обязательно создание чего-то принципиально нового и уникального, а эклектичное переописание уже созданного, в чем и заключены постмодернистские понятия иронии и коллажа.
И это творчество есть своеобразная точка пересечения взглядов современных философов и психологов. Последние в творчестве видят особенность порождаемой субъектом активности (Л.И. Анцыферова), высшую интеграцию проявления субъектных свойств (Б.Г. Ананьев). Однако здесь, в постулировании этого творческого начала, кроется не только схожесть, но и различие во взглядах, из-за которого эти два воззрения – философское и психологическое (радикальный постмодернизм и субъектно-деятельностный подход) – не поддаются взаимодополнительности. Так, А.В. Брушлинский твердо убежден в том, что мышлению любого человека, любого субъекта изначально свойственна креативность. По его мнению, даже догматик-бюрократ, который, казалось бы, мыслит штампами и шаблонами, проявляет творчество: «догматизм — это не слепое подчинение субъекта определенным догмам, шаблонам, идеологии и т.д. и потому не превращение его в объект такой идеологии, а скорее нередко весьма умелое подчинение последней узкокорпоративным интересам субъекта»[153]. Психолог критически подходит к общепринятой классификации мышления, которая разделяет данный процесс на творческое, продуктивное и репродуктивное. По его мнению, все мышление характеризуется творческой составляющей, а значит, два других вида (продуктивное и репродуктивное) – лишние понятия. Фуко же считал мышление заранее предопределенным эпистемой, то есть своеобразным сводом мыслительных запретов и предписаний, характерного для определенной исторической эпохи. Именно эпистема как единая система знаний на бессознательном уровне предопределяет язык, а значит, и мышление[154]. Исходя из данной мысли, логично будет предположить, что мышление жестко детерминировано, и эта детерминация не оставляет места для свободы и творчества. Постмодернизм как таковой выступает за интертекстуальность, цитатность мышления и его панъязыковой характер. Мышление не принадлежит индивиду, мыслящему субъекту, оно коллективно (интертекстуально). Представители постмодернизма, обозначая текстом все бытие – литературу, историю, сознание, мышление, индивида и т.д., – растворяют автономного субъекта в великом интертексте.
В прежние – не столь отдаленные – времена существовал образ некоего интеллектуала, всесторонне развитой личности, на которую следовало равняться. Он был монументален в своем всезнайстве и всеосведомленности. Интеллектуал должен был разбираться во всем: в науке (абсолютно любой и каждой), этике, религии, быте. Способность полемизировать на научной дискуссии должна была гармонично сочетаться со знанием этикета, с умением играть в шахматы, ловить рыбу, прибить гвоздь и т.д. Этот образ по сути являлся эталоном для каждого. Однако сейчас данный образ – не более чем симулякр, так как он, подобно субъекту, разбился на несколько осколков, каждый из которых являет собой субобраз, квинтессенцию не всеобщей компетентности, а лишь компетентности в какой-либо достаточно узкой области знания. Как отмечается, постоянно происходящий процесс дифференциации наук и саморасширяющийся поток информации не допускает возможности конституирования целостного субъекта[155]. Целостность невозможна не только благодаря информационной фрагментаризации, но и благодаря отсутствию способности познать все, весь объем знаний, захлестнувший современный мир. Трудно быть компетентным во всех областях науки – дерева, каждая ветка которой обзаводится все новыми отростками, каждый из которых, в свою очередь, дает возможность для рождения все новых и новых листьев. Знания обновляются, воспроизводятся, обогащаются и перевоспроизводятся, тем самым лишая нас интеллектуальной всеохватности. Таким образом, современный субъект находит свой кругозор лишь в отдельных областях наук, не в силах уместить в себе множество разных областей, но универсального субъекта знания (используя это словосочетание в предикативной форме) быть не может. Неудивительно, если в скором будущем медицинские знания настолько обогатятся, что (позволим себе такое ироничное преувеличение) специалист по левой ноздре будет обладать исчерпывающим знанием о своем предмете, но информация о правой ноздре будет для него неведома. Если раньше количество книг было ограничено и читали их все, то теперь все наоборот: информация находится в таком гиперпереизбытке, что сама ее ценность ставится под сомнение. Интеллектуала в наше время не существует, поскольку нельзя хорошо разбираться во всех областях общественной жизни; информации накоплено столько, что охватить ее невозможно. Чтобы быть хорошо осведомленным в области той же самой философии, можно, не обращаясь к первоисточникам, прочесть книги из серии «(Декарт, Гегель, Спиноза и т.д.) за сорок минут». Вполне допустимой и претендующей на истину является следующая шутка: книги пишут все, а читаю их только я один, в чем и заключается закон энтропии. Но в настоящем случае эта энтропия происходит несколько иным образом: книги пишут все, но никто не может освоить в полное мере этот информационный пласт.
Мало того, из всех, кто пишет книги, далеко не каждый их по-настоящему пишет. Все книги были написаны неким одним-единственным демиургом, основателем метадискурсивности (или метаоснователем дискурсивности), абсолютом, имеющим право претендовать на роль автора за создание первотекста. Так как любой писатель работает с уже имеющимися метками, штампами и символами, вовлекается в систему отсылок и цитат, то ему отказано в привилегии писателя. «Поэтому можно сказать, что после перво-Автора никакого авторствования быть не может и, следовательно, место Автора уже занято. Автор умер, т. е. умерла возможность стать Автором именно в перво-Авторе. Умерла возможность зафиксировать свою индивидуальность»[156]. Авторские права же на произведение – это всего лишь один из указателей на это произведение.
Скептицизм в отношении к субъекту, которым проникнута вся постмодернистская мысль, можно представить в двух формах – онтологической и гносеологической. Согласно онтологической, скепсис распространяется на бытие субъекта, отказывая ему в инаковости, целостности, автономности и осознанности – собственно в субъектности как основном внутреннем качестве. С точки зрения гносеологической, субъекту отказано «чистым образом» познавать окружающий мир и самого себя, постигать предметы своего научного интереса такими, какие они есть. И если даже мы находим внутри постмодернистских философских концепций идеи отхода от радикального скептицизма, эти идеи скорее можно отнести к более позднему философскому течению (именуемому некоторыми исследователями как after-postmodernism), а не самому постмодерну. В целом же проанализированное нами направление философской мысли отличается радикальной настроенностью по отношению к субъекту, согласно которой предлагается парадигма «смерти субъекта» как оппозиция модернистским конструктивным воззрениям, а намечающиеся попытки приблизиться к модернистскому конструктивизму следует принимать лишь как отход от деконструктивизма и от постмодернизма как определенной парадигмы. Хотя по замечанию С. Жижека, постмодернистский субъект – «субъект, основывающий «авторитетность своей речи на статусе жертвы обстоятельств, не поддающихся контролю», который, вместе с тем, «не является полной противоположностью свободного субъекта», осознающего себя ответственным за собственную судьбу, так как «любое столкновение с Другим выглядит как потенциальная угроза непрочному воображаемому равновесию субъекта»[157]. Таким образом, и модернистский и постмодернистский субъект суть жертвы обстоятельств, только роль этой виктимизации разная. В одном она доведена до предела, в то время как в другом ее статус ограничен.
Концепция «смерти субъекта» нашла свое отражение в действительности современного российского социума. Отмечается, что в современном обществе, наполненном множеством практик социального поведения, формируется «разорванность» (мозаичность) сознания индивидов, что приводит к отсутствию целостного представления о самом себе[158]. Гиперплюрализм, с одной стороны, дает субъекту многообразие вариантов для самоидентификации, с другой же, затрудняет возможность обрести субъектную целостность – единую и непротиворечивую картину мира. Примеряя множество масок, ролевых моделей поведения, субъект успешно адаптируется в социальном пространстве, становится «многофункциональным», но вместе с тем его расщепленное эго более похоже на набор субличностей, которые взаимодействуют друг с другом согласно принципам как сосуществования, так и борьбы. Таким образом, субъектность ризоматичным образом расширяется (растекается) по горизонтали, по поверхности, охватывая все больше и больше идеологий и поведенческих норм, но вместе с тем уничтожается как целостное явление.
5. От дихотомии субъекта модернизма и постмодернизма к универсализму субъектности
В предыдущих параграфах мы рассмотрели субъекта, представленного в предшествующих современности философских традициях и внутри психолого-педагогического дискурса. Также мы уделили серьезное внимание постмодернистским взглядам на субъектность, описав их принципиальные отличия от других представлений о субъекте.
В настоящем параграфе мы разрешим дихотомию между двумя субъектами – субъектом модерна и субъектом постмодерна. Противопоставление «субъект модерна» и «субъект постмодерна» не является условным, так как в философии уже высказывались мысли относительно кардинального разделения модерна, представляющего собой исторический проект, начинающийся во времена античности и обретающий наибольшее воплощение в эпоху Нового Времени, от постмодерна, характерного для современности[159]. Такое разделение дает нам возможность для противопоставления не самих этих двух проектов, а субъектов, понимаемых по-своему внутри каждой из этих традиций.
При исследовании категории субъекта, представленной в трудах отечественных психологов, выделяется несколько оппозиций, которые выражают противоречия в понимании данной категории[160]. Мы остановимся лишь на трех: осознанность-неосознанность, свобода-детерминированность (у Н.В. Богданович она представлена как «свобода-ответственность», но, учитывая содержание нашей работы, в связке с термином «свобода» вместо понятия ответственности здесь логичней будет поставить понятие детерминированности) и целостность-множественность.
Осознанность-неосознанность – оппозиция, формулирующая проблему возможности/невозможности человека быть субъектом, не обладая достаточным уровнем сознательности. Как мы уже заметили, А.В. Брушлинский допускает такую возможность, а Л.И. Божович убеждена в том, «что человек неосознанно становится субъектом и лишь позже осознает себя в этом качестве»[161]. Другие авторы (З. Фрейд, Ж. Делез), говоря о всесилии бессознательного, отстаивают более радикальную позицию, чем Л.И. Божович, которая все-таки не предпринимает попыток нивелировать субъекта.
Свобода-детерминированность – оппозиция, формулирующая проблему возможности/невозможности управления человеком своей жизнью. Экзистенциалисты (К. Роджерс, А. Маслоу) наделяли человека способностью управлять обстоятельствами своей жизни. Альтернативная позиция – учения фрейдизма и бихевиоризма (З. Фрейд, Скиннер), утверждающие жесткую биологическую или социальную детерминированность психики и поведения человека. И, конечно, рассмотренные нами философы полностью отрицают какую-либо свободу субъекта, вместо которой утверждают его детерминацию бессознательным и языковыми структурами (Р. Барт, Ж. Делез, Ю. Кристева, Ж. Лакан, М. Фуко).
Целостность-множественность – оппозиция, на одном полюсе которой находятся теории, говорящие о целостности субъекта (А.В. Брушлинский), а на другой – концепции о его множественности, разделяющие субъекта в зависимости от сферы его активности: субъект деятельности, познания, общения, интерпретации и т.п. Изученные нами воззрения постмодернистов настроены более радикально относительно множественности онтологического статуса субъекта. Если психологи, постулирующие множественность субъекта, все-таки допускают его присутствие, то сторонники философского постмодернизма «расщепляют» его на непостоянные идентичности (Ю. Кристева) и на множественные эго (М. Фуко).
И теперь, когда мы добавили к первоначальным оппозициям[162] еще один дискурс, обозначающий современные философские концепции субъектности, эти оппозиции приняли характер уже не бинаризма (то есть собственно оппозиций в прямом смысле слова), а тринитарности. Рассматривая данные оппозиции, мы несколько противоречили одному из основных принципов постмодернизма: отказ от бинаризма (равноценность одного описания реальности другому, оппозиционному). Этот философский релятивизм проявляет себя в стирании границ между обоими полюсами, в уничтожении демаркационной (разделяющей) линии между ними и рассмотрении каждой из противоположностей как к равноценной по отношению к другой противоположности[163]. Вообще, постмодернизм как философское течение, будучи релятивистски настроенным, стремится к разрушению бинарных оппозиций (мир – идея, прекрасное – безобразное, субъект – объект и т.д.)[164]. Но для нас задачей служило не исследование отношения постмодерновских концепций к бинарным оппозициям, а анализ соотношения данных философских положений и модернистских теорий субъектности, принимающих форму бинаризма.
Итак, мы прослеживаем резкие отличия между интересующими нас точками зрения, между разными взглядами – современным философско-постмодернистким и традиционным, - устремленными на одну категорию, которую они видят совершенно по-разному. Эта категория – субъект, с присущими ей особенностями: творчество, мышление, сознание и т.д. И данные особенности, принадлежащие субъектам двух различных дискурсов (модерн и постмодерн), вступают в борьбу (автономность и детерминация, сознание и неосознанность и т.п.). Таким же образом не могут найти компромисса исследователи, одни из которых утверждают целостность субъекта, а другие – его расщепленность.
В предшествующей эпохе модерна внимание уделялось субъекту, а не его отсутствию. Он был существом познающим (рационализм Нового времени), существом трудящимся (марксизм), существом страдающим (экзистенциализм) и т.д., но он всегда обнаруживал онтологическое присутствие, и никто не вправе был отменить его привилегированное положение, сместить субъекта в небытие.
Однако постмодернизм предпринял попытку уничтожить субъекта, лишить его своего онтологического статуса, детерминировать его языковыми схемами, бессознательным, властными структурами, массовой культурой и т.д. Если, обращаясь к прошлому наследию, мы видим субъекта целостным, автономным, самодетерминирующим, свободным и ответственным, сознательным, то теперь, когда на арену вышел «Париж со змеями», субъект утратил эти характеристики и превратился в симулякр, иллюзию самого себя – иллюзию подлинного субъекта. Но «абсолютизация сверхдетерминированности человека и его сознания приводит к аннигиляции самого вопроса о человеке»[165].
Таким образом, перед нами предстают два субъекта, кардинальным образом отличающихся друг от друга – модернистский и постмодернистский. Однако оба субъекта представляются нам всего лишь в форме предельно теоретизированных категорий, не находящих места в наличном бытии. Они существуют в идеальном мире в виде умозрительных построений, и их существование можно сравнить с существованием, скажем, идеального круга, наличие которого допускается в геометрической теории, но в реальном положении вещей его нет. Предельная круглость, четкая параллельность прямых линий, идеальная субъектность допустимы только внутри нашего разума, но не более того.
Характеристики модернистского субъекта (целостность, самодетерминированность, осознанность) не могут быть выделены в реальном мире, а значит, и сам этот субъект не имеет онтологической данности. Наличию целостности противоречит факт о том, что человек в процессе своей жизни меняет свои взгляды на бытие, трансформирует свое мировоззрение, меняет свою идеологическую позицию; если бы человек действительно являлся целостным, он был бы носителем одной мировоззренческой позиции, которая была бы неподвластна изменениям. Или, возможно, она вообще бы не родилась, так как ребенок на ранних стадиях социализации должен демонстрировать свою расщепленность, чтобы подобно губке впитывать социализирующие воздействия, на основе которых он позже сформирует свое мировоззрение. А если он не интериоризировал смысл данных воздействий, то не смог определиться в своей субъектной позиции. Самодетерминированность же, как и автономность, предполагает независимость, но навряд ли можно встретить человека, независимого от общественных норм и правил, законодательства, наконец – от других людей и их мнений о нем. Также ни один человек не может в полной мере себя детерминировать, поскольку в какой-то степени все мы зависим от «случая», от начальства на работе, от прихотей и запросов близких нам людей. А что касается осознанности, то еще Фрейд четко продемонстрировал огромную роль бессознательного; мы не можем полностью осознавать нашу жизнь и каждый поступок вплоть до самых мелочей, и какая-то часть (довольно большая) нашей жизнедеятельности подвержена бессознательному контролю. Н.Б. Маньковская видит суть фрейдовского подхода в утрате сознанием универсальности и прозрачности, когда бессознательное желание стало признаваться главным в человеке[166]. Таким образом, мы приходим к обоснованию невозможности полного существования модернистского субъекта внутри реального мира.
И в то же время постмодерновский субъект, выступающий как антипроявление модерновского, не обладает абсолютными правами на существование в наличном бытии. Нет в человеческом мире существ, абсолютно зависимых от чего-то внешнего, равно как нет полной зависимости и от внутреннего – бессознательных интенций. Да и ресщепленность как оппозиция целостности доведена постмодернистами до предела: полностью расщепленный человек – это шизофреник, да и то не всегда. Позволим себе также гипертрофированно представить эту расщепленность. Считается, что вещество делится бесконечно, а субъект… Во многих теориях субъект представлен как вместилище неких субличностей, но ведь каждая из них в связи с такой дискретностью может подвергнуться бесконечному делению. А как в реальности можно представить этот процесс?
По поводу постмодернистского понимания субъекта уместно пошутить следующим образом. Фуко, Барт и др. провозглашают «смерть субъекта», но сами при этом остаются субъективными инстанциями, из которых исходит это провозглашение. То есть, они считают себя вольными создавать философские идеи, убеждать в них кого-то на научных конференциях, переносить их на бумагу и даже получать гонорары за выпущенные книги. Получается, я как субъект убеждаю вас в том, что субъекта нет.
Выделенные характеристики модерновского субъекта – суть антипроявления характеристик постмодернистского субъекта. А значит, перед нами раскрываются дефиниции, представленные в виде полярных понятий.
|
Модернистский субъект |
Постмодернистский субъект |
|
целостность |
расщепленность |
|
самодетерминированность (интернализм) |
тотальная предзаданность (экстернализм) |
|
осознанность (Я) |
бессознательность (Оно) |
И поскольку эти связки можно разбить на две части – левую и правую, - пусть левой будет принадлежать модерновский субъект, а правой – постмодернистский. И обе части, обе половины, представляются нам как крайности, смысл каждой из которых доведен до предела, гипертрофирован.
|
Модернистский субъект (абсолютизированный) |
Постмодернистский субъект (релятивизированный) |
Для того, чтобы конституировать субъекта, принадлежащего наличному бытию – подлинного субъекта, – необходимо занять срединную позицию между этими крайностями, где характеристики субъектности будут не абсолютизироваться, с одной стороны, или, наоборот, элиминироваться, с другой, а восприниматься наличествующими до разумного предела. Эта попытка напоминает after-postmodernism тенденцию «воскрешения субъекта». То есть, субъект будет теперь локализован где-то посередине между двумя абсолютистскими иллюзиями самого себя. Конечно, нам не удастся полностью снять борьбу между целостностью и фрагментарностью, самодетерминированностью и тотальной предзаданностью, осознанностью и бессознательностью, но, наоборот, мы обозначили реальность этой борьбы, этого противостояния внутри настоящей субъектности, в то время как ни модерновский субъект, ни его постмодернистский оппонент практически не признавали этой борьбы.
Концепция «смерти субъекта» декларирует исчезновение именно модернистского понимания субъекта, абсолютизированного в предшествующей философской традиции как минимум трех столетий. Но она ограничивается только его элиминацией, не утруждая себя заполнением опустевшего места. Мы в настоящем исследовании не останавливаемся на постулате субъектного умирания, возрождение субъекта тоже не входит в наши планы. Эпоха модерна и постмодерна, равно как и предшествующие им периоды, по-своему организовывали пространство субъектности, создавая определенных «исторических» субъектов. Субъект модерна долгое время считался единственным из возможных. Именно он вошел в частно-научные парадигмы, но нужен был бунт постмодерна, чтобы сделать видимыми иные исторические типы, а также саму шкалу субъектности. Ни одна из этих культур – модерн или постмодерн – не может удовлетворить антропологическим требованиям, вытекающим из модели человека. Поэтому поиск промежуточной модели, адекватной сущности субъекта – задача, которую необходимо осознать и создать средствами иного типа культуры, чем модерн или постмодерн. Дальнейшее наше исследование будет базироваться теперь на использовании не модернистского или постмодернистского субъекта в массовой культуре, а установленного оптимального сочетания субъектных качеств. С этого самого момента мы обращаемся к термину «субъектность», которую следует представлять в виде некоей градации, шкалы, простирающейся от модернистской точки зрения до постмодернистской и вбирающей в себя различные культурные зоны субъекта. Именно тот зазор, который находится между ними, является выражением существующей субъектности, где фокус ее восприятия определен оптимальным образом.
Глава 2. Феномен массовой культуры и масс
1. Проблема понятийной репрезентации массовой культуры
Поскольку предметом нашего исследования является представленность субъекта в массовой культуре, то необходимо выработать представление о содержании понятия «массовая культура». Несмотря на то, что оно довольно часто используется в современной философской и культурологической литературе и выступает предметом анализа, его содержание недостаточно четко определено.
Трудно дать точную и исчерпывающую характеристику явлению культуры; его предельная широта лишает нас возможности в полной мере определить это явление. Уместно упомянуть закон обратного отношения между объемом понятия и его содержанием, согласно которому чем шире представляется изучаемый объект, тем труднее дать этому объекту исчерпывающее определение. Перефразируя изречение Ж. Лакана («О вещи, которую никто и в глаза не видел, с равным успехом можно сказать, что она «везде» и что она «нигде»[167]), скажем: о явлении, которое имеет слишком широкое поле значений, в равной степени можно сказать, что оно «везде» и «нигде» одновременно.
Культура проникает во все сферы человеческого бытия – от повседневности и быта отдельного индивида до межнациональных отношений. Культура – это искусственная, созданная человеком реальность, отличающаяся от естественно природного бытия. В философском энциклопедическом словаре мы находим следующее определение культуры: это «специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе»[168]. А. Моль предлагает следующее определение культуры: «это интеллектуальный аспект искусственной среды, которую человек создает в ходе своей социальной жизни. Она – абстрактный элемент окружающего его мира»[169]. Можно привести много определений культуры, ни одно из которых не будет полностью и исчерпывающим образом отражать сущность данного явления. Имеет смысл сказать, что понятие культуры по своей широте сопоставимо с понятием бытия – самым широким и всеохватывающим понятием, известным философской науке. Культура – это собственно человеческое, искусственное (то есть не природное) бытие. Конечно, такое определение слишком размыто и абстрактно, но оно вполне отражает абстрактность и широту определяемого, то есть культуры.
В настоящем параграфе мы не задаемся целью обозначить единственное правильное толкование культуры, а хотим дать определение именно массовой культуры, которая выступает менее широким явлением, чем культура в целом. А именно, мы планируем изучить поле определений массовой культуры, на основе которого нам удастся выразить ее сущность. Среди всех форм культуры именно массовая признается доминирующей[170] и вместе с тем противоречивой для того, чтобы дать ей однозначное определение[171]. Ниже мы рассмотрим наиболее типичные определения массовой культуры, которые отражены в современных исследованиях, посвященных данному явлению. Анализ этих определений позволит нам прийти к четкому пониманию массовой культуры и ее особенностей.
По утверждению П. Козловски, «развитие науки и техники должно иметь предпосылкой и следствием адекватное культурное развитие общества»[172]. Перефразируя данное высказывание, заметим, что уровень культуры общества имеет прямую связь с уровнем развития цивилизации в целом, а также и отдельного индивида, составляющего данную цивилизацию. Более того, уровень культуры выступает всеобщим определяющим качества жизни общества. В этом параграфе и последующих мы определим, что массовая культура может как действительно окультуривать социум и субъекта, так и, наоборот, вести к культурной деградации субъекта, а значит, и всего общества.
Но сначала отметим взаимосвязь между понятиями «культура» и «цивилизация». В научной литературе нет единой фиксации этой взаимосвязи. Одни авторы противопоставляют культуру цивилизации, наделяя культуру духовностью, а цивилизацию утилитаризмом. Другие отождествляют данные понятия, не замечая разницы между ними. Нам кажутся оба подхода несколько ошибочными, так как:
1) цивилизация – это форма общественного мироустройства, характеризующаяся достаточно высоким уровнем человеческих достижений. Но эти достижения действительно носят утилитарный характер, так они далеки от эстетических (искусство) и этических (мораль) аспектов социальной жизни. Это в первую очередь достижения техники, изобретения, выполняющую прикладные функции и ориентированные в первую очередь на технические и социально-экономические ценности. Противопоставление культуры и цивилизации приводит к впечатлению, что духовность противопоставляется варварству, ценное – ненужному, высокое – низкому. Но это неверно, так как цивилизация не является синонимом варварства, низости и ненужности, а, как было сказано, обладает многими ценными достижениями, которыми варвары не обладали. А потому подобное разграничение понятий не совсем себя оправдывает.
2) отождествление культуры и цивилизации также не совсем уместно, поскольку у них есть качественные различия. Культурные достижения удовлетворяют одни потребности человека (преимущественно высшие, этико-эстетические), а цивилизационные – другие. Технологический прогресс сам по себе не обеспечивает гуманизации, а потому он выпадает из процесса окультуривания и борьбы с антикультурными тенденциями.
Мы склонны, вслед за И.Д. Каландия[173], понимать под культурой форму и степень духовности, в которой выражены высшие достижения цивилизации. Цивилизация же – это материальный (вещный и предметный) базис культуры, характеризующийся своей полезностью, техницизмом, который культивирует ценности не трансцендентного, а имманентного, не духовного, а бытового. Таким образом, мы прочерчиваем между двумя понятиями параллель, при этом не впадая ни в одну из двух крайностей – Сциллы их противопоставления и Харибды их отождествления. Массовая культура, как мы вскоре заметим, представляя из себя иерархический конструкт, состоящий из высших и низших уровней, способна удовлетворять как предельно высокие потребности человека, связанные с самоактуализацией и саморазвитием, так и самые низкие – животные – страсти. Поэтому, вследствие такой диалектичности масскульта, последнюю можно рассматривать как в культурологическом, так и в цивилизационном подходе. Но вместе с тем она не поддается рассмотрению в рамках только одного из подходов вследствие того, что одновременно вбирает в себя как недостатки человеческого существования, мелкие страстишки и меркантильные помыслы, достойные осмеяния и осуждения, так и подлинные достижения науки, искусства, этики и философии. Поэтому, с одной стороны, массовую культуру (нижние уровни) можно рассматривать как продукт цивилизации, а с другой – именно как культурное явление.
Однако следует помнить, что взаимосвязь культуры и цивилизации познается в определенных рамках. Так, если мы говорим не о культуре в целом, а именно о массовой культуре, появившейся [в том числе] благодаря многим именно цивилизационным процессам – распространение СМИ и СМК, урбанизация и т.д., то невозможно ее отделить от цивилизационного компонента. Однако, обращая свой взор не на масскульт, а на национальную культуру, ее следует во многом противопоставить цивилизации. Национальная [народная] культура характеризуется прежде всего наличием менталитета, национального наследия, в то время как цивилизация вполне может обходиться без национальных корней. Собственно, в Америке вряд ли мы обнаружим богатую национальную культуру (как из-за сравнительной молодости американской «нации», так и присущим ей изначально утилитарным настроениям типа знаменитого концепта «Американская мечта»), однако цивилизация там развита больше, чем где-либо. Обращая внимание на происходящие сейчас глобализацинные процессы, следует почти с уверенностью сказать, что навязываемые в ходе глобализации ценности выхолащивают и уничтожают национальное наследие, а значит, и национальную культуру. Следовательно, в некоторых аспектах развитие цивилизации идет вразрез с развитием национальной культуры и – мало того – эти процессы могут быть не взаимодополняемыми, а, наоборот, взаимоисключающими. Вообще, культура должна облагораживать цивилизацию, обогащать ее эстетическими и этическими ценностями.
В наши задачи не входит обзор специфики национальной культуры и характера ее взаимодействия с цивилизацией, поэтому мы не станем останавливаться на этом вопросе и вернемся к интересующему нас явлению массовой культуры.
Массовая культура – это особая социальная реальность, детерминирующая действия индивида – субъекта этой реальности; она навязывает ему свою волю и манипулирует его сознанием[174]. А.В. Костина называет субъекта массовой культуры недифференцированным, с невыраженным личностным началом, особенности которого – некритичность восприятия и оценок, управляемость и духовная инфантильность[175]. Видно, что исследователи сходятся во взглядах относительно масскульта как явления, манипулирующего сознанием человека, в результате чего последний утрачивает свои субъектные качества.
Л.Е. Трушина связывает массовую культуру с универсализацией и институциализацией транслируемого общественного опыта, ценностных ориентаций и поведенческих норм, а причину появления масскульта она видит в глобализации информационных процессов[176]. Л.Е. Климова представляет массовую культуру как «сложное многофункциональное социокультурное явление, специфический способ освоения действительности и адаптации к ней личности, проявляющийся в условиях постиндустриального общества, производства и распространения культурных ценностей»[177]. Ее отличительными особенностями Климова считает: ориентацию на потребности и вкусы «среднего человека», высокую гибкость и способность трансформировать созданные другими культурами артефакты и превращать их в предметы массового потребления, коммерциализацию, связь со средствами массовой коммуникации – основным каналом распространения и потребления ценностей масскульта. Но главная особенность массовой культуры, по убеждению исследовательницы, - связь с СМК, благодаря которым масскульт охватывает наибольшую часть общества и подчиняет систему ценностей каждого индивида единому стереотипу, тем самым осуществляя манипулирование сознанием.
С.В. Борзых определяет место для массовой культуры внутри индустриальной ступени общественного развития и именует первую упрощенной формой высокой культуры[178]. Трудно не согласиться с подобным мнением; некоторые ученые идут еще дальше и придают массовой культуре не просто эпитет «упрощенная», а обвиняют ее в примитивизме и редукционизме по отношению к элитарной культуре. Основное отличие массовой культуры от элитарной состоит в ее обращении к не специализированному, а к обыденному нерефлексирующему сознанию, внутри которого главенствуют некритически усвоенные схемы; кроме того, масскульт подчинен быстро меняющейся моде[179]. Естественно, понятия массовой культуры и моды взаимосвязаны друг с другом, и одного без другого быть не может. Но тем не менее утверждать подчиненность первого второму не совсем уместно, так как они, скорее, соподчинены. Они оба формируют вкусы и предпочтения, но при этом масскульт представляется все-таки более широким явлением, чем мода.
М.С. Каган следующим способом описывает феномен противопоставления элитарной и массовой культуры. Элитарная культура основана на самовыражении ярко индивидуальных личностей, а массовая превращает людей в экзальтированное стадо[180]. Такое противопоставление кажется нам абсолютно неуместным. Дело в том, что массовая культура тоже основывается на самовыражении ярко индивидуальных личностей. Например, яркий (в прямом смысле слова) гламур, вещественные средства выразительности – разве не является ли все это одним из главных атрибутов молодежного масскульта? Но не всего масскульта, а лишь его части – китча, равно как и превращение людей в стадо исходит также не от всего тела масскульта, а отдельного его потока, которому мы успеем уделить огромное внимание. И вообще, неясно, о каком таком самовыражении говорит автор. Если мы воспримем «яркое самовыражение» в прямом смысле, то как раз увидим непосредственно внешнее его проявление, так характерное для китч-культуры, общества потребления и того, что принято называть гламуром. И даже слово «индивидуальность», использованное Каганом, не спасет его мысль от нападок, так как его можно воспринимать по-разному. В том числе обращаясь к индивидуальности как к чему-то, коррелирующему с высокими потребностями, мы можем сказать, что высшие уровни массовой культуры вполне способны удовлетворять духовные потребности. В общем, совсем необязательно элитарная культура способствует «яркому» самовыражению, а массовая – омассовлению.
По мнению Л.А. Орнатской, массовая культура лишает человека чувства укорененности во времени и пространстве, включает его в игру вместо подлинной реальности; человек замыкается в потребительском мире, становится нигилистом и эгоистом, ориентированным только на личное счастье; масскульт направлен против надиндивидуальных ценностей, за поверхность вместо сущности[181]. Н.Б. Маньковская рассматривает массовую культуру как симулякр: основа классического искусства – единство вещи-образа, основа массовой культуры – выросший из псевдовещи кич как бедное значениями клише[182]. И здесь мы снова замечаем предельно негативную представленность массовой культуры в глазах исследователей. Но такие утверждения – как и многие другие «истины» относительно массовой культуры – пропитаны духом малообоснованного критиканства. Причем данная тенденция прослеживается не только на страницах российских исследований, посвященных культурной проблематики. Известные иностранные авторы – можно сказать, классики культур-философского дискурса – отличаются подобным мнением в отношении масскульта.
Массовая культура как объект критики появилась сначала на западе. Так, М. Хоркхаймер и Т. Адорно уличают массовую культуру в клишированности, однообразии ее продуктов, в отсутствии каких-либо отличий между ними, в запрете потребителю мыслить. Массы, по мнению философов, обмануты капиталистическим производством, и массовая культура навязывается сверху[183]. Предполагается, что критическое отношение к массовой культуре в нашей стране возникло благодаря в первую очередь этим авторам и вообще западной тенденции осмысления массовой культуры. Но и, естественно, оно было навеяно рамками советской идеологии в целом, согласно которой все западное – в том числе и массовая культура – подвергалось осуждению. Собственно, в советское время под понятием «массовая культура» подразумевалась именно западная, буржуазная, культура, которая, естественно, рассматривалась как низовая, китчевая, антидемократическая, классовая, безнравственная, растлевающая молодежь и ставящая под угрозу общечеловеческие ценности, утверждающая буржуазные империалистические ценности, и вообще недостойная существования[184]. Возникает впечатление, что в Советском Союзе не было массовой культуры. Конечно, такое впечатление весьма ошибочно, так как все равно существовал большой культурный массив, который просто был политически ангажированным, и потому не мог позволить себе выходить за рамки дозволенного господствующей идеологией. Существовали кино, театр, живопись, литература, политическая мифологема относительно «светлого будущего», в которую полагалось верить всему обществу. Имело место множество явлений, которые в своей совокупности составляли то, что мы называем масскультом, и данные явления вполне могли ранжироваться по критерию их качества и внутренней полноты, но просто сами термины «массовая культура» и «китч» не принято было употреблять при изучении именно советских культурных явлений; они были, скажем так, моноупотребительными. Можно даже сказать, что советская массовая культура на самом деле была более массовой, чем нынешняя, благодаря ее большей гомогенности. Ведь нынешняя по сути своей разношерстная, вбирающая в себя различные субкультурные традиции, а ее предшественница, несомненно, была более целостной. И несмотря на то, что советская массовая культура во многом отличалась от западной, и эти отличия были кардинальными, сам факт ее существования именно как массовой неоспорим.
Интересную идею о том, что буржуазная массовая культура манипулятивными путями провозглашает антидемократические идеи, является политически ангажированной и прививает зрителю нормы пассивного некритического мышления, мы находим в книге В. Шестакова[185]. Не проявляется ли здесь самая настоящая подмена тезисов? Не была ли именно советская массовая культура антидемократичной и подвластной политическим догмам? И если даже в социалистическом обществе проповедовались идеи демократии и свободы, таковая проповедь имела место лишь на словах, а на деле в социальную жизнь «вживались» прямо противоположные идеалы. И этот тезис не требует доказательств, так как говорить о сталинских репрессиях и уже более поздних – хрущевских и брежневских – преследованиях инакомыслящих – все равно что заново изобретать велосипед. Конечно, нетерпимость хрущевско-брежневских периодов к чуждым идеологическим системам была значительно смягченной по сравнению с предшествовавшим им сталинизмом, но она все равно имела место, и не стоит отрицать этот факт. Поэтому сегодня мы можем только с сарказмом воспринимать идеи, подобные вышеприведенной. Такие идеи нисколько не соответствовали реальности, а являлись своеобразным госзаказом, который каждый житель советского пространства (в том числе и авторы научных книг, посвященных проблемам масскульта) должен был исполнять. Говорить об автономии культуры от политики в Советском Союзе – все равно что называть Сталина либералом и гуманистом. Конечно, культура не может быть полностью отделена от политики, так, что между ними не нашлось бы никаких точек соприкосновения и сопричастности, но мы говорим не о полном их отчуждении друг от друга, а о таком сосуществовании, при котором нет давления одного на другое. Вот в «буржуазной» массовой культуре такое давление было минимальным, по сравнению с ее советским оппонентом.
Вообще, существует теория, согласно которой холодная война между двумя мощными полюсами (США и СССР), а также непосредственным образом связанная с ней идеологически-информационная война, была инициирована так называемым глобальным правительством, мировым закулисьем, которое диктует правила разным государствам и странам. И такая травля проявлялась не только на собственно политическом уровне, но и на культурном. Но оставим эту теорию в покое, так как, во-первых, ее рассмотрение не входит в наши задачи, а во-вторых, мы не можем предоставить четких доказательств ее подтверждения (равно как и опровержения).
В общем, отношение к западной массовой культуре было, можно так сказать, почти бескомпромиссным, и оно зиждилось в первую очередь на политическом основании. Конечно, советские исследователи находили в ней некоторые положительные зерна (прежде всего те явления, которые идеологически близки к социализму и выражают социалистические настроения), но считали их роль незначительной на общем фоне буржуазного антисоветского дискурса. Однако, сравнивая прежний и нынешний дух времени, проявляющийся в отношении к массовой культуре, мы не найдем особо серьезного отличия. Как тогда масскульт критиковали и закрывали глаза на его достоинства, так и сейчас массовая культура подвергается обвинительным приговорам. Только тогда обвиняли западный масскульт (ведь другого и не видели), а сейчас – отечественный. Хотя, говоря о нынешней эпохе, едва ли ему подходит термин «отечественный», так как благодаря возрастающей роли Интернета, а также беспрепятственному диффузному взаимопроникновению друг в друга разнонациональных явлений искусства (кино, музыка, литература и прочее) стираются различия между «своей» и «чужой» культурой. Разделять культуру и идеологию на свою и чужую – прерогатива именно тоталитарных режимов. А разделять различные культуры – особенность доглобализационных обществ.
А.Б. Гофман предполагает, что многие отвергающие массовую культуру – это «творцы», качество произведений которых ниже средних произведений масскульта, и эта критика основана на обычной зависти к тем, чьи произведения стали широко известными, то есть массовизировались[186]. Заметим, что автор вводит массовую культуру в контекст искусства. Остается непонятным, что он имеет в виду под средним уровнем массы, поскольку он не разделяет массовую культуру на какие-либо иерархически расположенные уровни. Однако далеко не каждый низкокачественный продукт Гофман относит к массовой культуре, поскольку существует много действительно низкопробных произведений, не получивших известности, а следовательно, не вошедших в поле масскульта. В то же время, по мысли автора, шедевры мировой культуры могут принадлежать как массовому, так и внемассовому. В общем, Гофман не то чтобы встает на защиту массовой культуры, но призывает к объективному взгляду на нее в противовес однобокому критическому, широко распространенному среди исследователей. Для него основной критерий, идентифицирующий массовую культуру, - не низменность ее произведений (в отличие от мнения многих других ученых), а просто распространенность. М.В. Шугуров считает, что для адекватного осмысления культурного бытия человека необходимо вынести за скобки негативность в оценивании масскульта[187], с чем мы склонны согласиться. Ну если не «вынести за скобки», то хотя бы позволить позитивности как возможной и необходимой альтернативе присоединиться к этой негативности. Стоит предположить, что манера критиковать масскульт благодаря своей «массовой» распространенности является одним из элементов самого масскульта. «Противостояние личности конформизму сегодняшнего дня есть не более как конформизм дня вчерашнего»[188]. Таким образом, намечается альтернативная сугубо критической тенденция к рассмотрению масскульта. Теперь массовая культура уже не подвергается резкой критике, а становится предметом более рационального (практически лишенного оценочных суждений) исследования.
Массовая культура – явление, внутри которого все мы находимся и реализуемся как личности и субъекты своего жизненного пути. И в то же время массовая культура – объект многочисленной критики и нападок. Казалось бы, благодаря всеохватности массовой культуры, от которой, также как и от общества, убежать нельзя, мы не можем позволить себе критиковать ее, так как тем самым критикуем самих себя. С другой стороны, многие исследователи, позволяющие себе высокомерно относиться к явлениям масскульта, сознательно ограждают себя от последних и считают себя приверженцами чего-то более высокого – например, элитарной культуры.
М. Чегодаева, например, не усматривает в массовой культуре никаких позитивных моментов и связывает ее только с такими тенденциями, как реклама и китч; по ее мнению, массовая культура уничтожает личность и ведет к духовной и интеллектуальной деградации[189]. С.Н. Некрасова отождествляет массовую культуру с китчем – культурой отброса и подделки[190]. П. Козловски видит китч как «нетворческое перенимание и банализация, удешевление и принижение определенного эстетико-социального замысла и программы при одновременной претензии на высокое искусство»[191]. В книге А. В. Кукаркина китч определяется как «безвкусица, пошлость, дешевка, вульгарная подделка, эрзац; часто используется как синоним стереотипного псевдоискусства, лишенного художественно-эстетической ценности и перегруженного примитивными, рассчитанными на дешевый эффект деталями»[192]. Мы наблюдаем преемственность во взглядах авторов на китч, но вместе с тем представляется неуместным попытка объединения массовой культуры и китча. Похожего (критического) мнения придерживается А.С. Шаров: «человек в силу социально-психологических особенностей бежит от самостоятельного решения собственных проблем, тогда эту функцию берут на себя разного рода учителя жизни, религии и определенные социально-психологические и социально-философские направления, а чаще всего массовая культура, которая вообще уводит человека от самого себя»[193]. Да, многие явления массовой культуры уводят человека от своей субъектной сущности, но, как мы убедимся в ходе дальнейшего анализа, не стоит их обобщать до широкого понятия «массовая культура», а более целесообразно их рассматривать как ее часть. Китч, по нашему мнению, - это не синоним массовой культуры, а ее часть, которая, будучи достаточно широкой в количественном смысле, претендует на победу цивилизации над культурой. Китч носит в первую очередь цивилизаторский характер, так как ориентирован на полезность, на потребительство и материальный достаток любой ценой. Он видит полезность в двух аспектах: 1) финансовое обогащение (полезно то, что обогащает) и 2) бездумная развлекательность (полезно для души то, что ее развлекает, но не развивает). То есть, он ориентирован на две формы полезности, ни одна из которых не в то же время не удовлетворяет высокие, духовные потребности. Но, несмотря на этот утилитаризм, пронизывающий также цивилизационное мировидение, мы не можем полностью отождествить оба этих понятия – китч и цивилизацию. Дело в том, что цивилизаторский тип мышления – это рациональность, утилитаризм, который вместе с тем опирается на интеллектуальный опыт – в первую очередь на новаторство в области науки и техники. А китч – незаконнорожденное дитя культуры, ее побочный продукт, не имеющий под собой собственно культурной опоры и потому отчужденный от культурного наследия и всякого интеллектуального опыта.
В одной из опубликованных дискуссий, предметом которой является масскульт, указывается на низкое качество продукта массовой культуры. Последняя именуется суррогатом, который отвлекает человека от жизни, вместилищем разрушающих мироздание фантомов, заполняющее собой бытие и тем самым затрудняющее найти что-то действительно ценное; массовая культура обвиняется в коммерциализации (ей свойственна ориентация на заработок, на потребление); однако Е. Чижова, наоборот, наделяет массовую культуру эстетическим и этическим смыслом, но все-таки принижает этику и эстетику массовой культуры по сравнению с высокой; Чижова называет расцвет массовой культуры реакцией на прежнее принуждение людей к высокому искусству, которое эти люди не понимали[194]. Последнее замечание кажется достаточно интересным, хотя оно может рассматриваться лишь как одна из причин расцвета масскульта, который был создан и распространен в первую очередь благодаря цивилизационным достижениям, коими являлись СМИ, способные охватить огромную выборку.
Вообще, в философской традиции принято противопоставлять массовую культуру и элитарную, где первое предстает как нечто низшее, а второе – высокое. Эти две формы культуры представляют собой самую известную смысловую оппозицию, на что обращают внимание разные авторы[195]. Однако М.Л. Гаспаров считает, что «массовая культура гораздо меньше противопоставляет себя высокой, чем высокая — массовой»[196]. Это в очередной раз говорит о том, что ученые, уделяя внимание массовой культуре, смотрят на нее свысока и, возможно, недостаточно объективно ее оценивают, забывая о том, что и сами находятся внутри нее; на самом деле ни один интеллектуал не может полностью дистанцироваться от масскульта. Возможно, именно поэтому постмодернисты, устав от таких противопоставлений, уничтожили различия между одним и другим, и теперь нет четкой грани между массовой культурой и элитарной; так как субъект мертв, он не может выражать в своем произведении уникальную индивидуальность, что позволяет говорить и об отсутствии уникальности самого произведения. Все стало массово…
С таким же успехом можно элиминировать различия между булыжником и бриллиантом, хотя процедура такого де-различения имеет под собой реальные основания. Сегодня все общедоступно, любая информация, почти любое культурное явление способно предстать перед глазами любого человека. Например, из Интернета легко узнать о чем угодно, а потому ничто не является скрытым. Глобальная сеть, по сути, представляет из себя основную детерминанту де-различения культур, их смешения в единый (почти гомогенный) каркас. Другое дело, что каждый, кто хочет, может почерпнуть информацию об интересующем его культурном явлении, но все-таки далеко не каждый имеет способность понять и осмыслить данное явление именно таким, каким оно является, проникнуть в ту глубину, которая ему присуща. Вообще, в современном постмодернистском мире нет единого культурного центра, а само единое культурное пространство не отличается единством – на его место приходит разнообразие культур и субкультур[197]. На отсутствие этой четкой демаркационной линии, разделительную условность, указывают некоторые исследователи (Борисов О.С., Гофман А.Б., Косарева, А.Б.). О.С. Борисов вообще утверждает слияние массовой и элитарной: первую он называет религией (душой), а вторую – выражением религиозной интенции (саморазвитием души); сейчас, по мнению автора, нет ни того, ни другого[198]. Нам кажется убеждение Борисова весьма однобоким, поскольку он объясняет культуру лишь с религиозной позиции, а она не сводится только к этой сфере.
Возникает вопрос: за что же критикуют массовую культуру? Е.М. Гашкова пишет о критике масскульта, направленной на его материально-потребительские основания, к которым сводит бездуховность, «всеядность» и дурной вкус[199]. М.В. Колесник говорит о традиции гуманитарного знания критиковать культуру масс «за ее примитивно-поверхностный характер, пропаганду потребительского гедонизма и некую низменно-телесную сущность»[200]. Но при этом М.В. Колесник считает неуместным полное дистанцирование от объекта оценки, так как, по его мнению, массовая культура «живет» в каждом из нас. Но если это так, то возникает вопрос: в какой степени мы подвержены этому явлению? Естественно, культура (в более широком смысле слова) представляет собой ту среду, которая формирует личность. Как пишут педагоги, она определяет нормы жизни, которыми человек руководствуется[201]. Собственно, мы все есть дети культуры. Но культура – понятие широкое и емкое, и мы можем дать оценку человеку как личности только оценив ту культуру, нормы которой он присвоил. Если один человек «живет» только массовой культурой, то другой – как массовой, так и элитарной. Негативного оценивания заслуживает не вся массовая культура в целом, а отдельные ее потоки и тенденции. Если же не производить критическую рефлексию этого явления, то можно полностью отдаться ему, напрочь забыв о духовности и элитарности. Ведь продукты китч-культуры, которая является частью массовой культуры, действительно несерьезны и поверхностны. Китч – это культура примитивных инстинктов и выхолощенных ценностей. По замечанию К. Гринберга, китч как эрзац-культура предназначен для тех, кто безразличен к ценностям подлинной культуры; китч приветствует и культивирует бесчувственность, используя в качестве сырья симулякры подлинной культуры[202]. Продолжая мысль Гринберга, можно сказать, что китч паразитирует на высокой культуре.
Во многом образ жизни современного человека оказывает влияние на его культурное развитие. Так, в нынешнем обществе постоянная суета и беготня – вполне нормальные явления. Причем не только нормальные, но привычные, социально приемлемые и даже в некотором смысле культивируемые. Бег – символ жизни, преуспеть в карьере и личном благополучии можно лишь посредством бега. Бегущий человек – это важнейший концепт понимания современности[203]. Сам бег обретает символическую окраску и распространяется не только на вечно спешащего и боящегося опоздать бизнесмена, но и находит свое воплощение в телевизионной клип-культуре (быстрая смена картинок), скорость транспорта, быстрота реагирования нажатием на кнопки клавиатуры при увлеченности компьютерной игрой и т.д. Действительно, кто не успел, тот опоздал. Но постоянная беготня, будучи особо энергозатратной, сменяется своим антиподом – бездумным и потому не требующим никакой энергии развлечением по вечерам, после работы. Это обеспечивает баланс и определенную гармонию жизни, которую можно представить как единство противоположностей – изнурительный труд и легкая безответственная развлекательность. Но является ли это настоящим свидетельством гармонии? «Так как темп жизни стал быстрым, у индивида не остается времени на осмысление и понимание глубокого и серьезного»[204]. Однако если такая фраза звучит из уст потребителя китча, ее можно воспринимать просто как оправдание своей низменности и ничего более. То есть, потребитель китча представляется нерефлексивным, бесчувственным и поверхностным.
Основной смысл массовой культуры – гедонизм, развлекательное начало, освобождающее человека от тягот жизни, переселяющее его в игру – виртуализация[205]. М.В. Шугуров называет масскульт культурой пониженного смыслового травматизма и риска, не отягченной сложным смыслообразованием и интерпретациями. Массовая культура, по замечанию М.Б. Глотова, апеллирует к веяниям моды и эталонам потребления, не требует размышлений, позволяет расслабиться, несет в себе привлекательные и легко усваиваемые идеи, благодаря чему и овладевает вниманием студенческой молодежи[206]. Но М.В. Шугуров предупреждает нас о том, что не стоит придавать массовой культуре эпитет предельной простоты[207], с чем мы абсолютно согласны. Каждый эпитет, который мы придаем масскульту, характеризует не явление в целом, а какой-то отдельный его поток, а потому представляется нецелесообразным придавать такому широкому понятию, как массовая культура, какой-то один спектр характеристик, основанный, как мы уже заметили, на низкой оценке данного явления вследствие придания ему однозначных эпитетов «простое», «примитивное» и «бездуховное».
Исследователи предложили разделение массовую культуры на три потока (уровня): китч, мид и арт, где первое – это примитивный и низкопробный товар, второе – нечто среднее, а третье – высококачественные произведения[208]. Такая вертикальная типология массовой культуры может показаться на первый взгляд не совсем уместной, но она вполне оправдывает нашу мысль, согласно которой масскульт рассматривается как широкое явление, а потому его невозможно свести к категорическому оценочного определению: только «хорошо» или только «плохо». Учитывая вышеприведенные критические замечания, мы можем допустить, что культура в целом (как общее) позволяет себя подразделить на эти три потока, но, при первом приближении, массовой культуре соответствует только первый и второй (китч и мид). То, что называется артом, скорее всего представляется принадлежащим не массовой культуре, а элитарной, наполненной высококачественным продуктом, удовлетворяющим самый утонченный вкус. К тому же китч-культура считается самым широким потоком массовой культуры на настоящее время[209]. Однако не стоит путем отрицания высших уровней и абсолютизации низших умалять положительное влияние массовой культуры на субъекта, а также ее созидательный потенциал в целом.
По замечанию Е.С. Валевич, массовая культура формирует человека толпы[210], что говорит о негативной оценке автором масскульта. Нам представляется такая позиция слишком радикальной, так как массовой культуре присуще не только разрушительное воздействие на субъектность, но и отчасти созидательное (мид- и арт-культура), которое не позволяет в полной мере придать массовой культуре отрицательное значение. Е.М. Гашкова, например, считает, что массовую культуру должна сменить «срединная», которую нельзя будет назвать предельно сложной, но в то же время она не будет сводиться к примитивизму; она должна принадлежать среднему классу с устойчивой системой ценностей (можно сказать, субъектной позицией) и соединять человека с подлинной духовной реальностью[211]. Если брать во внимание вышеупомянутую классификацию, средним уровнем в ней является мид-культура. Наверняка Е.М. Гашкова «срединной» культурой именует именно этот поток, который, стоит заметить, объединяет людей, не обделенных устойчивым мировоззрением и субъектностью.
Однако мы, заботясь о терминологической чистоте, предпочитаем называть потоками не китч, мид и арт, а их продукцию. Сами же эти явления мы представляем как уровни массовой культуры, где китч является низшим уровнем, мид – средним, и арт – высшим. Стоит отметить, что данные уровни в научной литературе называются по-разному – как уровни или как потоки, и мы предпочитаем остановиться именно на термине «уровень». Таким образом, создается иерархическая модель массовой культуры, представленная в виде пирамиды. Если бы мы рассматривали масскульт как интеграцию потоков, то это не дало бы нам возможности увидеть в нем иерархию (само слово «поток» не предполагает никакой иерархии, которая в массовой культуре имеет место). Поэтому мы решили использовать более подходящее слово «уровень».
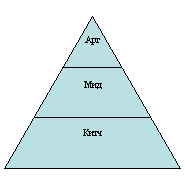
Представление данной схемы именно в пирамидальной форме объясняется следующим образом. Мы исходим из того, что продукты китча – наиболее широкие в востребованности среди масс и наименее качественные; поэтому пространство данного уровня на схеме занимает самое нижнее и самое широкое место. Мид как средний уровень (и по качеству и по востребованности) занимает срединное место. Арт как уровень, отличающийся наивысшим качеством своего продукта и наименьшей популярностью среди масс, локализован вверху и предельно узок в пространстве.
Имеет смысл добавить, что А.В. Пронькина предлагает похожую модель массовой культуры, которая отличается только терминологически, но не содержательно. Так, данная модель предполагает также три уровня: китч-культура, популярная культура и неоэлитарная культура, где первый и второй типы являются общепринятыми, а третий обозначает малочисленные наиболее ценные артефакты, что сближает массовую культуру и элитарную[212]. В общем, тенденция разделять массовую культуру на уровни (элементы, потоки) имеет особый смысл. Такое разделение, с одной стороны, демонстрирует нам масскульт в его сложности и противоречивости, а с другой – позволяет изучать интересующее нас явление уже не однобоко (как мы видели, резко критически), а более объективно.
Конечно, можно согласиться с теми авторами, кто настаивает на гомогенности массовой культуры, кто скептически относится к ее разделению на уровни. Но они в своей позиции правы частично. Как нельзя утверждать полное однообразие масскульта, так и не имеет смысла прочерчивать огромные бездны между ее уровнями, утверждая, что последние принципиально отличаются друг от друга. Так, Р. Барт, доказывая неразделенность культуры, пишет о том, что все могут понять телевизионную передачу, программу званого ужина или статью из журнала; все потребляют подобную продукцию, за исключением отдельной группы интеллектуалов[213]. Но вместе с тем в этой мысли все-таки отведено место интеллектуалам, которые ставятся в некое оппозиционное пространство по отношению ко «всем», что уже говорит о гетерогенности культуры.
«Современная массовая культура является формой сознания, основанной на телесном восприятии внешнего мира и построении модели внутреннего мира, с помощью различных телесных состояний»[214], - пишет М.В. Колесник, который не дает масскульту четко негативной оценки. Но если обращаться к классическому противопоставлению телесности и духовности, первое соответствует низкому уровню культуры, а второе – высокому. Но закономерным образом возникает проблема определения самого понятия «телесность». Если, подобно автору, освобождать его от низменности и бездуховности и ставить его в основу всех сфер человеческой жизни – в том числе и высших форм творчества, - то, признавая телесность всей массовой культуры в целом (и вообще всей культуры), мы автоматически снимаем противоречивость между элементами дихотомии «телесное – духовное». Производя же разделение телесной (китч) и духовной (арт) культуры, мы сохраняем данную оппозицию в ее первоначальной форме.
В контексте изучения отношений к массовой культуре известная бинарность «позитивное – негативное» представлена в другом виде: «нейтральное – негативное». Не стоит придавать спектру отношений к масскульту тринитарный характер, так как этот спектр сводится преимущественно лишь к двум вариантам отношений; они, эти варианты, не являются качественными противоположностями и не выступают полюсными проявлениями, расположенными на единой шкале. Однако, несмотря на видимую разумность использования троичной связки «хорошо – нейтрально – плохо», первый элемент в нашем случае будет отсутствовать, оставляя место лишь двум последним и тем самым тринитарность превращая в бинаризм.
Таким образом, мы видим сравнительно небольшой спектр отношений к массовой культуре в целом, а не к отдельным ее элементам. Либо это отношение резко критическое, либо нейтральное. Критики нападают на нее в целом, представители нейтралитета разделяют ее на составные части (элементы) и репрезентируют свое отношение не к цельному явлению, а к каждой его части в отдельности – к одной положительное, к другой отрицательное, что в синтезе дает относительный нейтралитет. Нам представляется, что такая неоднозначность в отношении к масскульту прослеживается благодаря тому, что исследователи еще не совсем определились в том, что же такое массовая культура и на какие элементы ее можно разделить. Собственно, неоднозначность определения явления массовой культуры и вычленения составляющих ее элементов приводит к неоднозначности отношения к ней. Так что первоначальная проблема заключена в формировании четкого и непротиворечивого понимания массовой культуры как социального явления, отталкиваясь от которого, можно будет дать оценку данному явлению.
Казалось бы, арт-культура, представляясь максимально близкой к элитарной, находит свою духовную реализацию во вкусах элиты. Однако элита понимается скорее как явление социально-экономическое, нежели культурологическое. Элита определяется общественной статусностью и высоким материальным достатком, а не духовностью и интеллектуализмом. Следовательно, арт-культура совсем необязательно востребована именно в элитарных кругах, к которым можно отнести сотрудников администраций и управлений, всяческих высоких чиновников вплоть до президента, в среде которых может быть популярен тот же самый китч. Эта мысль созвучна идее Э. Фромма, утверждавшего, что управленцы – такие же придатки тоталитарной социальной машины, как и их подопечные; «они пользуются теми же противоядиями против тоски», «они уже не элита в прежнем смысле, то есть группа, созидающая культуру»[215]. Также и Ф. Ницше называл чернью и рабами не нищих, а, наоборот, богатых, погрязших в похоти, разврате, лживости и воровстве: «чернь сверху, чернь снизу! Что значит сегодня «бедный» и «богатый»! Эту разницу забыл я»[216]. Похожие строчки мы находим у Г. Маркузе, который пишет, что если рабочий и начальник смотрят одну и ту же телепрограмму, макияж секретарши не хуже макияжа дочери ее начальника и при этом все они читают одни и те же газеты, это указывает не на исчезновение классов, а на степень усвоения населением тех потребностей, которые служат сохранению Истеблишмента[217]. То есть, элита власти (административная) не обязательно является культурной, равно как чернь неадминистративная далеко не всегда оказывается чернью культурной. Противопоставление бедных варваров богатым эстетам иногда оборачивается в противопоставление бедных эстетов богатым аборигенам.
Исходя из этого, понимание элиты (как и понимание массы) поддается осмыслению в соответствии с двумя типами ее описания:
1) элита – это привилегированная прослойка общества, представители которой занимают высокий социально-профессиональный статус.
2) элита – это прослойка общества, определяемая расположением к высокой форме культуры.
Как мы видим, эти две формы представления если и не противоречат друг другу, но и не «накладываются» одно на другое. Элита первого подхода может быть «воспитана» в том числе в русле культуры китча, поэтому она не может являться культурным эталоном, в то время как элита второго подхода совсем необязательно занимает высокое общественное положение и характеризуется высоким материальным благосостоянием. Конечно, можно совместить обе формы представления, в результате чего элита будет определяться как через статусность, так и через духовность, но такой эклектический подход окажется слишком отдаленным от реальности, поскольку тогда на почетное звание «элита» смогут претендовать лишь единицы. И к тому же подобная эклектичность будет выходить за рамки культурологического описания, которое, учитывая тему данной работы, для нас представляет наибольший интерес.
Характеристики массовой культуры, как отмечает Л.А. Орнатская, не выводимы из простого феномена массы, а являются выражением «духа эпохи»[218]. Таким образом, массовая культура – это не только культура толпы, а нечто большее, включающее вовнутрь себя еще и некоторые духовные составляющие. Собственно, массовая культура – это культура большинства; это воздух, которым дышит социум в целом, за исключением лишь отдельных его индивидов или групп. Этот воздух недостаточно чист, но и совсем грязным его тоже не назвать, поэтому мы находим оправдание двойственному отношению к массовой культуре, о котором говорили выше.
Отмечается, что культура подразумевает наличие определенных идеалов[219], а идеалы есть у любой формы культуры, и масскульт их не лишен. Однако представляется почти нереальным объединить в единое поле идеалы всех форм массовой культуры, поэтому более целесообразно будет репрезентировать идеалы каждой формы в отдельности. Так, идеалами китч-культуры являются преимущественно гедонизм, лишенные духовности развлечения, антиэстетизм и антиинтеллектуализм, погоня за модой. Анализируя массовое общество, К. Ясперс сводит бытие человека к всеобщему, к тривиальности наслаждения, и определяет этого человека как производственную единицу[220]. Философ не пользуется понятием китча, а уделяет внимание общественной ситуации в целом, в ее наиболее абстрактной форме, но можно провести параллель между пониманием китча и того явления, о котором говорит Ясперс.
Основная особенность массовой культуры – это большой объем ее продукции, охватывающий практически все общество; а сама массовая культура представлена по каналам массовой информации и коммуникации[221]. Количественный аспект массовой культуры действительно имеет значение, так как она охватывает предельно широкие слои населения. Так, Л.А. Орнатская разделяет определения массовой культуры на качественные и количественные. Под качественными понимается оценка масскульта, который противопоставляется элитарной культуре. К количественным относится рассмотрение массовой культуры как всего того, что передается через средства массовой коммуникации и понимание массовой культуры как всего, что продается и пользуется спросом (то есть необязательно это что-то «низкое»; главный критерий – массовость, а не качество)[222]. На первый взгляд эти два подхода к определению массовой культуры кажутся взаимно противоречивыми.
Согласно качественному подходу, продуктами массовой культуры является все низкое, ширпотребное, оказывающее негативное воздействие на человеческую субъектность. Продуктами же элитарной культуры выступают, наоборот, действительно качественные произведения, ориентированные на интеллектуала и эстета, - эксклюзивные (не тиражируемые), удовлетворяющие самый утонченный вкус и наполненные нравственным содержанием. В общем, существует бинарное разделение культур – массовая и элитарная, и основным критерием такого разделения выступает качество, но не количество. Все качественное принадлежит элитарному, все некачественное – массовому.
С точки зрения количественного подхода, все транслируемое по СМК, - масскульт. Хотя по радио, пусть не часто, но тем не менее иногда можно услышать не только попсу, но и классику. Значит, согласно такой логике, если классику передают по радио, то и она тоже входит внутрь массовой культуры, и можно смело поставить ее почти в один ряд с попсой – этим пространством нагромождения отходов массовой повседневности. Тогда что можно именовать элитарностью? То, чего нельзя услышать по радио, увидеть по телевидению или в стенах музеев? В мире искусства создается очень много ширпотребного материала, который никак не фигурирует в СМК, но ведь нельзя же его относить к сфере элитарного только потому, что ему отказано в широте тиражирования. Далеко не каждый андерграудный продукт обладает особой ценностью, так как сама по себе андерграудность этой ценности не придает.
Если мы возьмем во внимание только один из подходов к определению массовой культуры, наши выводы будут не достаточно полными и объективными. При попытке уделить равнозначное внимание обоим подходам мы вообще не сможем прийти к непротиворечивым выводам, если откажемся от использования идеи гетерогенности (уровневой представленности) массовой культуры.
Мы склонны считать массовую культуру не статичным феноменом, укорененном «на века», а динамичным образованием, в процессе времени постоянно меняющимся вместе с исторической сменой духовных ориентиров, а также с изменениями моды. Например, в шестидесятые годы прошлого века прослеживалось массовое увлечение музыкой пионеров рока. «The Beatles», «Rolling Stones», «The Doors», «Creedence», «Cream» слушали практически все. Затем на место этой музыки постепенно пришло то, что в просторечье именуют попсой. И куда тогда делись прошлые музыкальные увлечения? Перешли в сферу элитарности? В таком случае в «свою» эпоху (шестидесятые) они не являлись продуктами высокой культуры, а были всего лишь низостью, редукцией культурного бытия только потому, что имели предельно широкое распространение (учитывая количественный подход)? И если когда-нибудь место сегодняшней так называемой эстрадной музыки займет что-то другое, то она, потеряв престиж в широких кругах, также перейдет в сферу высокого искусства? Нам не кажется такая позиция особо убедительной.
Бытует мнение, согласно которому общесоциальные ценности именуются массовыми, поскольку они «общие» для всех индивидов, составляющих данный социум. Но нельзя сказать, что все общество, каждый его член, имеет единую систему ценностей, неотличимую от других индивидов, населяющих данный социум и данное культурное пространство. Прибегая к статистическому анализу, становится возможным вычленить нечто общее в системе ценностей индивидов, некоторое срединное образование, и обозначить его масскультом. Но не факт, что это срединное в количественном смысле явление будет низким по качественному аспекту. Это зависит и от развития (духовного, интеллектуального и эстетического) самого общества в целом, существующего в определенную историческую эпоху. У развитого социума развитая массовая культура, у неразвитого, соответственно, низкая и заслуживающая критики. По мнению Х. Ортеги-и-Гассета, именно от среднего человека зависит здоровье культуры – гении, в отличие от него, разбиваются о монолит заурядности и остаются непонятыми и непринятыми, - а потому важно как можно выше поднять средний уровень[223]. Но всегда есть что-то более высокое, чем масскульт, что-то, удовлетворяющее наиболее возвышенные потребности, каким бы уровнем развития общество не обладало. И лишь немногие его члены будут приобщены к этому высокому культурному явлению. То есть массовая культура – всегда редукция чего-то более возвышенного, его упрощение, но вместе с тем массовая культура далеко не всегда заслуживает упреков. Мы можем оценить масскульт, лишь оценив разрыв между его самым низким уровнем и присущей этому времени элитарной культуры. Если данный разрыв слишком велик, то культура масс будет представляться в негативном ключе, если же он минимален, то оценка масскульта сведется как минимум к нейтральности.
Естественно, масса характеризуется не только качеством, но и количеством. Но если в какой-то период времени в моде будет господствовать интеллектуализм, тогда сможем ли мы это большинство – интеллектуалов – назвать массой? Вряд ли. Многим исследователям массовая культура представляется как низкая по качеству, но широко распространенная по количеству потребляемых ее людей, но такая онтологическая данность масскульта – не более чем оторванная от реальности иллюзия, существующая только в теоретических умопостроениях. Хотя современный китч именно таков – качественно низок и широк, - он является лишь частью массовой культуры.
Однако мы сможем примирить между собой количественное и качественное объяснение массовой культуры, как раз если представим последнюю не как одномерное в качественном смысле явление (низкое или высокое), а как синтез разных по своему качеству явлений, своим единством образующих сложное тело массовой культуры. Приняв разделение масскульта на три части (китч, мид и арт), каждая из которых характеризуется своим уровнем духовности и интеллектуально-эстетической насыщенности, мы снимем противоречия между двумя приведенными выше объяснениями. Если придавать такой модели массовой культуры кумулятивный характер, то китч будет выступать самым низшим культурным явлением, мид – высшим, и арт – наивысшим. То есть, китч займет наиболее отдаленное место от высокой культуры, мид станет в более близкую ей позицию, а арт если не сольется с ней, то максимально сократит дистанцию между собой и элитарностью. В таком случае становятся вполне объяснимыми тезисы некоторых ученых о стирании границ между масскультом и элитарной культурой; просто они не разделяют первую ни на какие уровни, и тогда действительно становится проблематичным увидеть отличия. Также и трудно поспорить с расхожим мнением о низости массовой культуры; несмотря на то, что подобные эпитеты мы не станем придавать мид- и арт-уровням, возьмем во внимание идею В.В. Гопко о том, что китч-культура на сегодняшний день пользуется максимальным спросом. А если таковая тенденция действительно имеет место в современном обществе, то неудивительно, что исследователи, взглянув на широту такого распространения ширпотребного продукта, сводят массовую культуру исключительно к китчу и синонимируют эти понятия.
С.Р. Аблеев и С.И. Кузьминская выделяют следующие характеристики массовой культуры: ориентированность на гомогенную аудиторию, опора на иррациональное и бессознательное, эскапизм по отношению к «тяжелой» реальности, быстродоступность, быстрозабываемость, традиционность и консерватизм, оперирование средней языковой семиотической нормой[224]. Учитывая то, что эти авторы предложили классификацию масскульта, описанную нами, а затем выделили четкие характеристики массовой культуры (а не каждого из отдельных ее уровней), в их концепции появилось серьезное противоречие. Массовая культура требует разделения на уровни потому, что из-за своей обширности и неоднозначности влияния на общество и субъекта она не поддается описанию как единого целостного явления, и обнаруживает внутри себя противоречия; противоречия между сущностью ее уровней и характером их воздействия на субъекта. Следовательно, не представляется приемлемым давать массовой культуре определенные характеристики, которые будут касаться всего явления целиком. Названные характеристики скорее будут применимы не к самой массовой культуре, а к китчу как ее самому низкому и самому широкому уровню (и в некотором смысле миду). В целом же попытки охарактеризовать масскульт в его неделимости нецелесообразны; если для одного уровня будут приемлемы одни характеристики, то для второго – совершенно другие.
Мы приходим к выводу о трудности репрезентировать непротиворечивое и четкое представление массовой культуры, если не подвергать ее разделению на отдельные уровни. Ей дано множество определений, но не описана ее сущность – наверное, из-за внутреннего многообразия массовой культуры ее сущность не поддается восприятию исследователей, оставаясь неуловимой. Массовая культура довольно широка, и мнения разных авторов, сводящих ее к низменности или находящих в ней созидающее начало на человеческую субъектность, не всегда рассматриваются сквозь призму противоречий, а зачастую дополняют друг друга, создавая некий устойчивый и целостный симбиоз, состоящий из разных позиций. Масскульт может граничить с элитарной культурой, находиться с ней «бок о бок», и в то же время они могут быть слишком отличны друг от друга, равно как не всегда массовая культура является низкой и примитивной, но она всегда занимает положение ниже элитарной культуры и является некоторой редукцией последней; массовую культуру можно оценить, только дав оценку элитарной культуре и увидев широту разрыва между «низом» и «верхом». В одном массовая культура выступает противоположностью элитарной, а в другом она является ее копией. Мы считаем, что к критериям, разделяющим массовую культуру и элитарную (равно как уровни масскульта друг от друга) можно причислить не только уровень сложности и интеллектуальной глубины, степень тиражируемости и эстетической насыщенности произведений, невоспроизводимость и оригинальность, но и наличие нравственного компонента, без которого высокая культура не может существовать именно как высокая. Например, античный полис при всей эстетической утонченности его культуры нельзя назвать в полной мере нравственным, на что указывает свойственный ему рабовладельческий строй. К тому же антигуманность рабовладения была санкционирована многими великими философами; например, Платоном и Аристотелем.[225] Конечно, именно представитель нашего времени не станет называть античный полис нравственным, а потому придавать его культуре статус элитарной, поскольку рабовладение – уж явно не насущная проблема современности. Но представитель античности, в отличие от нашего современника, скорее всего не согласится с его оценками. Это в очередной раз доказывает идею исторической подвижности рамок нормальности и ненормальности, элитарности и низменности, нравственности и безнравственности, а потому и объяснительных схем, направленных на экспликацию данных рамок.
Высокая культура, по нашему мнению, требует от реципиента соответствующий уровень как интеллектуального и эстетического, так и нравственного развития. Этическое наполнение, нормы человеческого общежития, сохранения доброго и вечного, высшей степени человеческого в человеке, добродетели, апелляция к разуму, способность мыслить самостоятельно – все это аспекты нравственности. Однако, несмотря на наличие вышеперечисленных критериев, все-таки невозможно с математической точностью отделить разные типы культур друг от друга.
Обратив внимание на критерии, отделяющие массовую культуру от элитарной, следует упомянуть идею М.С. Либеровой, называющей высокой ту культуру, продукты которой нуждались в систематической поддержке государства (музеи, театры, художественная самодеятельность и прочее)[226]. Но можно ли с достаточной серьезностью принимать такой критерий, как наличие государственной поддержки? Естественно, нет. В советский период практически вся культура была контролируема государством и представляла собой почти единую систему норм, вкусов и ценностей. Но поскольку она была единой, занимала монополистической положение и не встречалась лоб в лоб с какими-либо сильными оппозиционными формами культуры, именно она была массовой – по крайней мере по степени распространенности. И совсем необязательно государство стремится поддерживать именно высокую культуру. Иногда государственная политика, наоборот, направлена на поддержку китчевой культуры, и это вполне оправданно, так как, например, современному правительству, идеология которого однозначно не отличается либерализмом и демократизмом, было бы выгодно лоббировать низовую культуру, не заставляющую человека мыслить и не актуализирующую в нем какую-либо рефлексивно-критическую составляющую: управлять проще тем народом, который не думает. Поэтому государственная интервенция в культуру не может рассматриваться как фактор улучшения и возвышения последней.
Согласно Н.В. Попковой, элитарная культура ориентирована на инновации, а массовая консервативна, элитарная представляет собой некую интеллектуальную игру, а массовая апеллирует лишь к эмоциям в ущерб рациональности[227]. И опять же, взяв во внимание арт-уровень масскульта, мы можем примирить это противопоставление, так как продуктам данного уровня вполне присуща как инновационность, так и интеллектуальность.
Туманны всяческие демаркационные линии, отделяющие массовую культуру современности от масскульта какой-либо другой эпохи, равно как нет четкости и полной устойчивости в отграничении различных уровней массовой культуры. Собственно, эта размытость граней придает массовой культуре огромную степень абстрактности. Скорее, эти границы носят символический характер, они не похожи на стену или колючую проволоку, и капсулирование каждого уровня в его сущностном аспекте, отделение его от других уровней, есть акт разума, в своем моделировании прокладывающего некие идеальные границы.
Методологическая стратификация триады «китч», «мид» и «арт» в контексте анализа процессов деантропологизации массовой культуры весьма примечательна уже тем, что выводит рассмотрение предметного ряда исследования на необходимость анализа аксиологических детерминант становления субъекта в условиях социо-функциональной экспансии «эрзац-форм» культуры. В этих условиях «аннигиляция» трансцендентной смысловой семантики из общей совокупности культурного продукта приводит к укоренению «эрзац» форм идеала, образцы и формы восприятия которого продуцируются культурой китча.
Но тем не менее можно с уверенностью сказать, что массовая культура осуществляет связь между обыденным и специализированным знанием, несмотря на то, что она [в отличие от более гомогенной советсткой массовой культуры] перестала быть знаковой системой, равно доступной всем членам общества независимо от их социального статуса, уровня образования, национальности и профессиональной принадлежности. Я не хочу сказать, что советский масскульт был абсолютно равно дотупен всем, но лишь то, что он, будучи менее дифференцированным, стремился к этой общедоступности. Некоторые современные масскультурные явления понять предельно просто, некоторые сложнее поддаются пониманию, и каждое их них требует особого развития субъектных качеств для формирования понятийной репрезентации предлагаемых продуктов. Китч как наинизший уровень не предполагает никакой образовательно-личностной подготовки для осмысления его продукции, но арт-уровень все-таки требует значительно более высокой подготовки. Связь между обыденным и специализированным знанием осуществляется в основном мид и арт уровнями масскульта, которые, донося какое-то научное знание до более или менее широкой публики, упрощают его, не выхолащивая содержания, но делая более доступным для понимания большинством.
Постмодернизм, отрицая любые бинарности, не разделяет массовую культуру и элитарную. Он отвергает иерархические теории массовой и элитарной культуры как анахронизм; культура постмодернизма ориентирована на эстетические потребности масс и подчеркивает их потребительскую сторону[228]. Постмодернизм соединяет эти части вместе, стирает различия между ними. Он рассматривает человека (любого человека) как продукт этой глобальной культуры, а если мы все от нее зависим, тогда она уже может быть названа массовой. То есть, внутри постмодернистского дискурса существует только массовая культура, и нет более никаких альтернативных вариантов культур. Культура создает субъекта, культура заявляет о себе посредством субъекта, но вместе с тем этот субъект представляется мнимым, ненастоящим, так как он зависит от этой культуры, он – всего лишь ее атрибут. Собственно, культура, создавая субъекта, вместе с тем и отказывает ему в свободе и творчестве. Настоящий субъект – это шизофреник; он свободен от культуры, от массовых представлений и норм, в своей инаковости он выходит за ее пределы. А по сути, с точки зрения постмодернизма, внутри массовой культуры субъектности нет.
Однако ирония постмодерна теперь воспринимает масскульт не как профанный, китчевый, тривиальный и невыразительный, а эстетизирует его как оригинальный и альтернативный, формирует гедонистическую эстетику досуга. То есть, происходит эстетизация неценного «мусора культуры», играющая роль компенсации обесценивания традиционных ценностей. Но тенденции растворения постмодернистского искусства в жизни и его сближения с эстетикой повседневности подвергаются многими исследователями критике[229]. Собственно, постмодернистская трактовка массовой культуры вообще снимает вопрос относительно существования последней: массовая культура становится всем, так как вся культура массовая.
Стоит добавить, что субъект зависим от мира (культуры), но и мир зависим от субъекта. Субъект наделен свободой в построении собственной жизни и в отношениях с миром; адаптируясь к миру, он активно изменяет и преобразовывает среду, вносит вклад в культуру. При внешней детерминации поведение человека регламентируется социумом, а при внутренней человек руководствуется своими ценностями, мотивами и целями[230]. Так, под понятием «модус самодетерминации» в первую очередь предполагается внутренняя детерминация, которая, в свою очередь, имеет место рядом с внешней, о чем мы уже говорили в первой главе. Таким образом, мы убеждаемся не только в возможности амбивалентного влияния культуры на субъекта, но и в двойственном характере взаимоотношений человека и культуры – не только культура формирует человека, но и существует обратный процесс.
Массовая культура – сложно организованное (иерархизированное) многофункциональное социальное явление, особая социальная реальность, транслирующая общественный опыт, эстетические вкусы, нравственные ценности и поведенческие нормы. Мы видим, что массовая культура – слишком многогранное понятие, сущность которого трудно поддается понятийной репрезентации. И поэтому возникает потребность в исследовании не масскульта в целом как единого и целостного явления, а каждого из его уровней в отдельности, а также изучение массы как субъекта массовой культуры.
2. Феномен бессубъектности массы как потребителя китч-культуры
Изучая явление массовой культуры, целесообразно обратить внимание также на понятие «масса», без рассмотрения которого научное осмысление масскульта было бы неполным. Так как в литературе понятия «массовая культура» и «культура масс» (или «культура толп») синонимируются, возникает необходимость осмысления содержательного различия между этими понятиями. В настоящем параграфе мы укажем на беспочвенность такого отождествления, и рассмотрим культуру масс (китч-культура) как частное явление по отношению к более широкой массовой культуре.
Разговор о массе ведут многие ученые – философы, психологи, педагоги. Масса является не только философским понятием, но и общегуманитарной категорией (впрочем, как и субъектность). По замечанию Л.Е. Климовой, «качественная определенность массовой культуры постиндустриального общества задается теми изменениями, которые произошли в самой массе»[231]. Этим утверждением подчеркивается взаимосвязь между массой и массовой культурой. Но вместе с тем на феномен трансформации массовой культуры влияют не только изменения в массе, но и процессы, происходящие в обществе (если разводить понятия массы и общества).
В психологии принято рассматривать массу как ситуативное образование, наличествующее на уровне «здесь и сейчас», существование которого ограничено временными рамками (например, футбольные фанаты). Это «скопление людей, не объединенных общностью целей и единой организационно-ролевой структурой, но связанных между собой общим центром внимания и эмоциональным состоянием»[232]. Находящиеся в толпе люди, по замечанию А. П. Назаретяна, переживают эволюционную регрессию (путем актуализации низших, более примитивных пластов психики), и у них происходит стирание индивидуальных различий.
Мы рассматриваем массу в более широком смысле. Она представляется не как ситуативное образование, способное внезапно появиться и также внезапно исчезнуть, а как явление, находящее место не на уровне скопления людей в прямом смысле, а на уровне культурного развития, характерного для данного социума; собственно, масса – это совокупность не только зевак на улице, но и людей [межкультурных единиц], никакого физического взаимодействия между которыми может и не быть. «Чтобы ощутить массу как психологическую реальность, не требуется людских скопищ. По одному-единственному человеку можно определить, масса это или нет»[233]. Однако мы согласны с психологами относительно нивелировки субъектных качеств у человека, составляющего массу.
Массу можно рассматривать как основанное на психофизическое близости ее индивидов образование, так и в виде просто психологической близости, исключающей какие-либо прямые контакты между индивидами. «Массовизацией» могут быть охвачены люди, вообще отчужденные друг от друга[234]. Но такая позиция кажется наименее реалистичной; отсутствие знакомства между людьми не дает возможности говорить об их отчужденности. Согласно подобной теории, масса может состоять из индивидуалистов, отчужденных не только друг от друга, но и от социума, с чем трудно согласиться. Если даже между индивидами, составляющими массу, нет прямых контактов, они не отчуждены один от другого, так как общая культура (преимущественно китч) объединяет их если не на психофизическом, то на психическом уровне.
Обращаясь к многочисленным исследованиям массы, мы замечаем в основном негативное отношение авторов к данным явлениям. Так, С.Ф. Денисов используя известную фразу о человеке, желающем хлеба и зрелищ, наделяет таковыми потребностями человека массы[235]. Причем, стоит заметить, изучение массы – не новая тенденция в науке; масса привлекала внимание философов и раньше. Так, Ф. Ницше считал, что масса достойна только презрения. По замечанию Р. Генона, масса, представляя собой пассивность (бессубъектную материю), всегда была водима, но при этом ее заставляют верить в свою спонтанность и самоуправляемость[236].
Серьезное изучение массы представлено в работе Г. Лебона. Автор наделяет массу склонностью к активным революционным действиям в противоположность к мыслительной активности; именно масса, сравнимая с варварами, разрушает цивилизации. Масса бессознательна, а составляющие ее люди лишены индивидуальности и высоты интеллектуальных способностей, но у нее есть коллективная душа, составляющая некое единство направленности мыслей и чувств. Толпа заразительна и восприимчива к внушениям, она раздражительна и импульсивна. Она уважает сильного лидера – тирана – и готова отдать себя его власти, ввергнуться в рабство. Лебоновская толпа консервативна и питает ужас ко всяким новшествам. Когда цивилизация утрачивает свой идеал, которым были связаны все ее представители, она становится толпой[237]. Заметно, что Лебон рассматривает массу преимущественно с психологических позиций, а нас более интересуют культурологические аспекты этого явления. Кроме того, в его концепции просматривается некоторое противоречие; масса не может быть одновременно революционной и консервативной. Если же, отвлекаясь от идей Лебона, обратить внимание на современную российскую массу, то никакая революционность ей совершенно не присуща. Этот вывод напрашивается сам собой ввиду пассивного принятия политического авторитаризма и даже тоталитаризма, которое массы проявляли ранее – в советское время – и проявляют сейчас.
Х. Ортега-и-Гассет в своих работах[238] разделяет общество на меньшинство и массу и отмечает, что массе соответствует средний человек. Этот человек имеет низкие требования к самому себе (плывет по течению, не пытаясь себя перерасти), избегает всякого напряжения (в отличие от противопоставляемого ему благородного человека), он не отличает себя от других и не удручен этой неотличимостью. Однако здесь мы не можем согласиться с философом, поскольку психологически каждый человек испытывает потребность быть отличным от других, и многие наши современники пытаются тем или иным образом отличаться – манерой одеваться, художественными или политическими предпочтениями, – но не каждому это удается. Например, современная девушка не согласится с тем, что она во всем похожа на остальных, и это утверждение на свой счет воспримет оскорбительным. Но если человек безуспешно стремится быть отличным от большинства, это еще не значит, что он дистанцируется от массы и массовой культуры, и в этом наша позиция противоречит взглядам Ортеги-и-Гассета, который вообще лишает человека массы потребности в отличии от других.
Ортега в своем понимании массы исходил из той временной эпохи, которой принадлежал сам. Мы же ставим цель описать именно тот феномен масс, который свойственен современности, и это временное отличие дает нам возможность по-другому, нежели это делал испанский философ, представлять массу. Возникает необходимость заново открывать это понятие, с учетом современных тенденций. Раньше из массового сознания вычленяли принципиальную неотличимость. Например, гражданин Советского Союза мыслился как социальный (совершенно неотделимый от общества) индивид, во всем согласный с партией, политически послушный. Да и сейчас конформизм как таковой, естественно, имеет огромное место среди современных масскультурных тенденций, но он скорее проявляет себя на бессознательном уровне; а вот осознанно каждый пытается быть отличным от других. Ориентацию на референтную группу и связанную с ней неотличимость, равно как и индивидуализм, также можно изучать, отталкиваясь от возрастных особенностей индивида. Эти полярные явления свойственны определенным возрастам: каждое - своему. Однако мы не ставим задачу рассмотреть возрастные особенности этих явлений, поэтому не считаем необходимым разворачивать эту аналитическую линию.
Г.Г. Почепцов подвергает сомнению положение Х. Ортеги-и-Гассета о том, что человек массы не хочет признавать над собой никакого авторитета[239]. Мы также не соглашаемся с данным положением и считаем, что, наоборот, человек массы склоняется перед авторитетом, не проявляя никакой критики в адрес последнего. Собственно, он вместо себя наделяет субъектностью этого самого авторитета. Хотя, принимая во внимание современное общество потребления и присущую ему идеологию, авторитетом выступает не какой-то конкретный персонифицированный лидер, а сам образ жизни, который одновременно зиждется на отсутствии каких-либо авторитетов и при этом на безоценочном принятии утилитарно-бездуховной установки «деньги и статус – это все», где не находится места для культуры. Однако, сейчас общество наполнено массами послушных и угодливых правительству индивидов, которые на место верховного авторитета ставят Путина. Массами их можно назвать в силу многих особенностей – в первую очередь в силу их безрефлексивного и конформного принятия путинской политики, которая по сути является антинародной.
Х. Ортега-и-Гассет, разделяя общество на меньшинство и массу, первых наделяет высокой требовательностью к себе, а вторым отказывает в этой требовательности – они лишены ориентиров и созидательности, и нисколько этим не удручены. По нашему мнению, требовательность к себе – это один из аспектов саморазвития субъекта, стремящегося достичь чего-то большего. А поскольку настоящий субъект обладает способностью к саморазвитию, человек массы не может быть нами определен как подлинный субъект своего жизненного пути. Ортега-и-Гассет называет массу посредственностью, которая, возомнив себя одаренной, не стала бы таковой, а имел бы место всего лишь самообман. Если обратить внимание на плебейские нравы многих представителей так называемой элиты (номенклатуры), трудно все-таки дать им высокую оценку, что требует пересмотра соотношения массовой культуры и элитарной, где элитарная будет рассматриваться уже не по критерию социальной принадлежности, а по критерию высоты нравов и идеалов. Так, некоторые люди обычного происхождения отличаются обладанием настоящих субъектных качеств от многих людей «высокого» статуса.
Удивляясь широкому распространению масс во всем мире, Х. Ортега-и-Гассет говорит, что благодаря головокружительному росту эти толпы «не успевают пропитаться традиционной культурой»; «в массу вдохнули силу и спесь современного прогресса, но забыли о духе»[240]. Философ выделяет две черты массового человека – рост жизненных запросов и неблагодарность к тому, что облегчило ему жизнь – и сравнивает его с избалованным ребенком. Мы бы сказали, ему максимально подходит термин «инфантильный». Его неблагодарность заключена в том, что он потребляет, но не создает, ни с кем не считается, думая, что мир принадлежит ему и создан для него и мня себя самодостаточным. А на самом деле попусту растрачивает свою жизнь, естественно, не осознавая это. Именно такие инфантильные, «самодостаточные» плебеи, по нашему мнению, соответствуют идеологии современного общества гламура и потребления, а вместе с тем идеалам китч-культуры. Современная чернь, согласно Ортеге, избалована окружением, а такое воспитание создает иллюзию вседозволенности и рождает эгоцентризм. Избыток благ, изобилие и богатство, по утверждению испанского мыслителя, калечит человеческую природу. «Человеческая жизнь расцветала лишь тогда, когда ее растущие возможности уравновешивались теми трудностями, что она испытывала»[241].
Нам представляется концепция Ортеги-и-Гассета весьма однобокой для нашего времени, поскольку далеко не для каждого человека, которого можно отнести к массе, мир стал библейским садом, Эдемом, житие в котором уже не требует никаких усилий. Много людей, населяющих современный мир, продолжают страдать от жизни, от тягот и забот, которые сопутствуют их выживанию, и философ не говорит о таких людях как о массе. Вопрос о том, что более стимулирует к омассовлению – условия нищеты или роскоши, в которых находится индивид, остается открытым и по сей день. Противоречие концепции Ортеги-и-Гассета заметно в том, что он массой называет преимущественно экономически обеспеченные слои населения, и в то же время говорит о необходимости равновесия между возможностями и трудностями человека. Что касается равновесия, то здесь мы с философом полностью согласны, а вопрос касательно материального избытка (но не недостатка) весьма спорен.
Эту спорность можно описать, обратившись к двум экзистенциалистским теориям, первая из которых принадлежит А. Маслоу, а вторая – В. Франклу. А. Маслоу считает, что удовлетворение основных потребностей (безопасность, сопричастность, любовь, уважение) стимулирует стремление к самоактуализации, то есть первое является обязательным условием второго, но не наоборот[242]. Согласно знаменитой пирамиде потребностей, человек может достичь высшего уровня, пройдя через все низшие, то есть при устроенности своей жизни. В. Франкл оппонирует данной концепции, говоря, что, наоборот, человек тяготеет к смыслу (самоактуализации) в условиях наихудшего существования[243]. Г. Маркузе, описывая экономический фактор – возрастающая производительность труда создает увеличение прибавочного продукта, который обеспечивает возрастание потребления, - подобно Франклу пишет об отсутствии смысла самоопределения, если жизнь наполнена комфортом[244]. Если же мы обратим свой взгляд в древность, то условно в качестве методологических союзников Франкла и Маслоу увидим киников – в первую очередь Диогена Синопского, утверждавшего «я еще никогда никого не видел испорченного бедностью, а порочностью – многих». Он же говорил, что тиранами люди становятся только из-за богатства, а не из-за бедности[245]. Конечно, «философ из бочки» заходит слишком далеко, утверждая бедность краеугольным камнем добродетельного существования, но в целом в его словах есть доля истины.
Несмотря на то, что обе теории противоречат одна другой, можно согласиться с каждой из них. Так, с одной стороны, человек достигает развития подлинной субъектности, находясь в достатке; вряд ли голодный будет думать о личностном развитии. С другой же стороны, обращая внимание на современное общество, можно заметить много богатых в материальном смысле людей, чьи субъектные качества едва ли развиты – эти люди вообще не задумываются ни о каком саморазвитии. А что касается нашей, то есть российской, интеллигенции, так она почти всегда была голодной и нищей: сами понятия «интеллигент», «учитель», «преподаватель» укоренились в российском сознании в качестве своего рода имен нарицательных, указывающих не только на утонченный вкус, развитый интеллект, но и отсутствие материального благосостояния. В общем, мы не можем остановиться ни на богатстве, ни на нищете как детерминанте омассовления. Здесь уже в наибольшей степени имеют место индивидуальные особенности человека: ориентация на окружение и на мнение большинства, неосознанность своего поведение, гиперконформность и т.д. – именно те особенности, которые являются противоположными субъектным качествам. Голод может приводить к преступности, а пресыщение – к зазнайству [и к преступности еще больших размеров]. И в обоих случаях человек демонстрирует свою культурную низость.
В общем, под словом «масса» можно понимать не только ту низшую в материально-статусном плане прослойку общества, которая готова идти за любым лидером, но и ту, которая – по описанию Ортеги – состоит из избалованных индивидов, не признающих никаких авторитетов. И несмотря на качественные различия в их образе жизни, оба концепта массы указывают на низкий культурный уровень индивидов, характеризующихся как через первую дефиницию массы, так и через вторую.
Ф. Ницше, восхищенный аристократизмом с его жестокостью и культом силы, производит разделение людей на две категории: категорию масс и категорию господ. Ницше восторгается последними, а первых презирает; последним он дает полное право подчинять себе первых, так как каста господ имеет преимущество – отсутствие внутренней раздвоенности, в то время как человек массы есть носитель псевдо-морали, что характеризуется расхождением инстинктов, влечений и внешних норм[246]. Немецкий философ устанавливает приоритет отдельной личности, ее уникальности над всем остальным. Но вместе с тем далеко не каждый обладает этой уникальностью; большое количество «низших» людей не самодостаточны, а потому рассматриваются как инструмент для появления и самореализации «высших» личностей. То есть, масса должна быть подавлена кем-то более благородным и достойным подлинного существования. Ницше наделяет массу аскетизмом, боязливостью, альтруизмом, любовью к ближнему, кротостью, сдерживанием в удовлетворении инстинктов и вульгарностью; все эти качества философ считает проявлением слабости. Однако далеко не все из перечисленных качеств, как нам представляется, присущи современному массовому человеку. Под вопрос можно поставить в первую очередь аскетизм (учитывая так называемое гедонистическое общество потребления) и сдерживание инстинктов.
Все больные и слабые, чтобы отряхнуть с себя ощущение слабости, инстинктивно стремятся к стадности[247], что и составляет феномен масс. Заметим, что философ определяет христианские общины как воплощение этой стадной организации, а само христианство – религией убогих, слабых и больных, то есть масс. Но тем не менее ницшеанское понятия «масса» не ограничивается только религиозным пониманием, а имеет более широкое значение.
Человек массы – это тот, кто прислушивается к мнению соседа и не является самим собою. Подлинная задача человека – сохранение редчайших и ценнейших экземпляров культуры; только в таком случае человеческая жизнь обретает ценность[248]. Под значимостью мнения соседа Ницше подразумевает ни что иное, как конформизм. А конформизм и другие особенности массы в своей совокупности именуются немецким философом «моралью рабов». Но что же такое являться самим собой? Философ не дает четкого ответа на этот вопрос, представляя человека, облаченного во множество шкур, который их сдирает, не зная, какая из них не является оболочкой. Заметим, что такое понимание человека – его подлинности и сути – довольно близко постмодерновскому; человек – это совокупность масок, за сбрасыванием каждой из которых являет себя новая, препятствуя процессу раскапывания настоящей сущности. Хотя Ницше не настаивает на ее полном отсутствии, все-таки не зря некоторые авторы считают его провозвестником постмодернизма; многие его идеи в некотором роде лежат в основе этого философского течения. Но предметом нашего разговора является не постмодерн и влияние философии Ницше на его становление, а массы и феномен их бессубъектности. Поэтому обратимся к точкам зрения других философов относительно данной проблемы.
Согласно концепции В. Райха, масса наделена такими особенностями, как страх перед авторитетом (что противоречит концепции Ортеги), покорность, пугливость, послушность, боязнь свободы и неспособность ей распоряжаться – все те качества, необходимые в тоталитарном государстве. Выработка этих качеств парализует всякую склонность к мятежу и протесту, ко всякой критической мысли, что выгодно как церкви, так и государству. Причину их выработки ученый видит в первую очередь в подавлении сексуальных влечений человека, и неспособность масс к свободе представляется ему не естественным и врожденным фактором, а социально-сформированным[249]. Несмотря на то, что Райх рассматривает массу, существующую именно при тоталитарных режимах, те особенности, которыми он ее наделяет, во многом пересекаются с представлениями о массе у других авторов. Кроме того, с одной стороны, тоталитаризм с его мифологемами активно способствует омассовлению людей, а с другой – сами массы хотят фашизма.
Во времена серьезных социальных потрясений недальновидный народ начинает требовать сильной руки, не подозревая, что это требование выражает желания фашизма как крайней формы подавления личных мнений и свобод[250]. Он не знает, как следует распорядиться своей свободой [и ответственностью, без которой свобода невозможна] и перекладывает право выбора [и ответственность] на сильного лидера, после чего, беспрекословно ему подчиняясь, следует за ним, руководствуясь примитивным рефлексом подражания; все это напоминает животное стадо, нежели цивилизованное общество. Мы жаждем наших цепей! – безмолвно кричат массы, и этот молчаливый крик слышен по всему громадному зданию тоталитаризма, по всей цитадели закрытого общества, в котором нет места свободам. Как отмечается, при низком культурном уровне социума рефлекс подражания создает условия для возникновения тоталитаризма; именно поэтому, понимая опасность, в республиканском Риме выбирали диктатора только в критических случаях и только на полгода[251]. Создается впечатление, что в некоторых [политических] аспектах античный полис был более цивилизован, чем современный постиндустриализм.
Феномен добровольного принятия фашизма заключен, естественно, не только в культурной бедности масс, но и в их страхе перед одиночеством, перед свободой, перед ответственностью. Наконец, во многих случаях жесткое семейное воспитание, в соответствии с которым от ребенка требуют любви к человеку, который его подавляет и бьет, актуализирует трепет перед фашизмом. Да и некоторые люди, ненавидя тирана, все равно остаются им зачарованы, инвестируя свои чаяния в него; во многих случаях это происходит в том числе благодаря использованию тираном методов не только принуждения, но и заигрывания. Сказав несколько слов, мы оставим в покое тему анализа причин возникновения этого феномена, поскольку это не является принципиальным для нашего исследования.
Иными словами, народ сам ответственен за тот режим, который наступает во время существования этого народа. Народ склоняет головы перед режимом, после чего начинает обвинять в текущем положении дел кого угодно, но не себя. За Гитлером шли, его выбирали. И вряд ли в последующих событиях можно обвинять только Гитлера и его приближенных, но также и его электорат, который дал ему возможность творить то, что он творил. Деморализованный народ с радостью приветствует великого человека, обещающего решить все проблемы и гарантирующего общественный порядок, не задумываясь о том, что порядок может обернуться диктатурой и репрессиями.
Когда рушится тоталитарный режим, омассовленный им народ, представляющий совокупность одномерных функциональных винтиков, отчужденных от самих себя, внутренне раздавленных, опустошенных и утерявших свой субъектный стержень, не знает, что делать дальше, и, ратуя за либерализм, бессознательно стремится к воцарению тоталитаризма. Или же пускается во все тяжкие, а внутренняя аксиологически-этическая пустота запускает механизм все того же волюнтаризма, но уже не в сугубо политическом смысле, а в бытовом криминальном. По сути ведь обычный преступник отличается от политика-тирана только масштабами деятельности, и любой преступник – тот же тиран, который навязывает свою волю жертве. И если у человека, находящегося под гнетом тирана, благодаря этому давлению заглушается личная ответственность и нивелируются внутренние моральные качества, то потом – после окончания гнета – ступить на преступный путь ему будет не так уж сложно: гнета уже нет, но и внутренних норм тоже нет. Недаром после крушения Советского Союза начало девяностых ознаменовало собой не столько рост либеральных ценностей, сколько криминализацию России на уровне масс. Демократия обратилась охлократией. Массы не знали, что делать со свободой, не знали этого и отдельные люди, составляющие массу. Так что природу общественно-политических событий трудно понять без анализа того, что происходит в душе человека. То есть, проблема политической тотализации – не только сугубо политическая или социально-психологическая проблема, но и антропологическая. Мы не настаиваем на введении психологизма, единственно с помощью которого представляется возможным измыслить эту проблему, но, по нашему мнению, в первую очередь он способен максимально [но не исчерпывающе] пролить свет на многие аспекты социальной действительности. Но сейчас не будем останавливаться на поиске методологии, способной указать правильный путь для максимально полного научного осмысления феномена массовизации в условиях современности, поскольку в ходе такого анализа появляется риск уйти в психологические дебри, освещение которых едва ли необходимо для нашей темы. Отметим только свое согласие с позицией Ф. Закарии о том, что навязывание демократии извне какому-либо народу не всегда срабатывает, так как необходимо, чтобы в обществе существовали органические корни демократии[252]. Если их нет, то, соответственно, едва ли успешным будет проект причинения людям добра при выведении их на демократический путь. Если этих корней нет, то общераспространенными ценностями останутся безответственность и аморализм, а не свобода и нравственность.
Свобода – все-таки ценность интеллектуалов, а не масс. Массам, как таковая, она не особо-то и нужна. По крайней мере они видят значительно большую необходимость в лишнем куске хлеба, нежели в свободе слова или печати [или в свободе вообще – в максимально широком смысле этого слова]. Поэтому качество тех антиправительственных митингов и всевозможных акций протеста, на которые сегодня выходит сравнительно небольшая часть населения страны, оставляет желать лучшего. Люди хотят, чтобы правительство дало им что-то материальное, но ни о чем более высокопорядковом они, как правило, не думают. Прочитав эту фразу, кто-то из таких персонажей может обвинить нас в цинизме – мол, какая может быть духовность, когда кушать нечего. Но такое обвинение будет совершенно неестественным, поскольку многие действительно думающие люди, представители интеллектуальных профессий, живя впроголодь, всегда на первый план ставили духовные ценности, что противоречит теории Маслоу, но вполне соответствует действительности.
Е.А. Попов группирует все духовные и социальные процессы русской культуры в два комплекса: негативный и позитивный. В первое он вносит понятия материального, внешнего, низкого и массы. Кроме того, Е.А. Попов противопоставляет человека-деятеля, созидателя и потребителя, агента массовой культуры[253]. То есть, автор придает массе и массовой культуре негативный характер, что также касается и ее агента – субъекта массовой культуры. Вообще, многие исследователи противопоставляют человека массы и подлинную личность. Например, А.В. Костина наделяет массу такими характеристиками, как инфантильность, несамостоятельность, размытость и подвижность представлений о мире, отсутствие внутренней детерминации, а в современном поколении (поколение 2000) видит равнодушие, вялость, апатию, социальную разобщенность и тотальный конформизм[254]. Эти характеристики массы представляет собой абсолютную противоположность выделенным нами субъектным качествам: осознанность, самодетерминированность и целостность мировоззренческой позиции.
В качестве основной причины, порождающей массу, с точки зрения Э. Канетти, выступает страх перед прикосновением неизвестного, и человек способен освободиться от этого страха только слившись с массой, которая в то же время снимает индивидуальные различия людей, в ней находящихся. Основные свойство массы – склонность к разрастанию, равенство между ее составляющими индивидами, плотность (ничего чужеродного внутри), общая целевая направленность[255]. Можно сказать, что слияние с массой, тотальный конформизм, освобождает человека от страха, но вместе с тем и лишает его субъектной сущности. Канетти больше склонен употреблять термин «самосознание», но поскольку мы установили, что самосознание – одна из атрибутивных характеристик субъектности, можно перефразировать Канетти: масса не только бессознательна, но и бессубъектна.
Л.Г. Ионин, анализируя знаменитую книгу Э. Канетти, именует массу предметом и жертвой манипуляций со стороны власти[256]. Однако мы склонны понимать под властью, оказывающей на массу воздействие, не только органы правительства в прямом смысле, а нечто более широкое, чем можно считать массовую культуру – по крайней мере те ее элементы (мода и реклама), которые создают массу и управляют ею. Осознающий и рефлексирующий субъект способен отличить свое (самость) от чужого (канеттиевское жало как «точное отображение приказа»[257], сокрытое от сознания выполняющего приказ). Если это чужое не ощущается как нечто внешнее, то оно интериоризируется вовнутрь, и предстает уже как свое. Таким образом действует реклама, пропаганда, мода и т.д. Об этих явлениях мы будем говорить далее.
Э. Канетти, в отличие от других исследователей (Лебон, Ортега-и-Гассет, Райх), не смотрит на человека массы «сверху вниз», не противопоставляет его человеку элиты. Однако, несмотря на отличия в представлении массы у разных авторов, всех их можно объединить негативным отношением к массе, сведению ее к толпе, к бессубъектной сущности, внутри которой утрачиваются индивидуальные различия и собственно субъектные качества.
Анализируя понятие массы, стоит также обратиться к работе Ж. Бодрийяра. Как считает французский мыслитель, над массой не способна властвовать воля и репрезентация. Ее нельзя побудить к деятельности, используя директивные средства, равно как нельзя заставить массу принять тот смысл, который выдается за истину – он ей неинтересен. Но зато массу можно подвергать диагностике, которая выступает средством познания массы, определения ее самочувствия и позиции. С массой заигрывают, на нее оказывают воздействие, в конце концов на нее ссылаются: «Весь русский народ полагает, что…», «Большая часть американцев позитивно настроена по отношению к…». Масса бомбардируется информацией, но этот процесс не имеет никакого отношения к процессу коммуникации, он не передает никакой смысл, а используется лишь для поддержания обратной связи и контроля над реакциями. Энергия массы, которая высвобождается посредством данного процесса ее бомбардировки информацией, должна способствовать построению и укреплению социального, но, по мнению Бодрийяра, это не так: социальность гибнет, а не укрепляется.
Существует мнение о том, что информация, поступающая в массы, вызывает высвобождение энергии. Бодрийяр говорит о противоположном эффекте. Информация способствует дальнейшему производству массы, и поле социальности неуклонно сокращается. А растущая в своих размерах масса остается невосприимчивой к содержанию информации, которая ей передается, и находится вне контроля классических социальных институций. Информация иррациональна, и это ее качество разрушает социальное. Вот он, итог социализации, провал которой очевиден.
Масса представляет собой зону холода, у нее нет социальной энергии, но ее холод имеет возможность поглощать любую активность. Бодрийяр сравнивает ее с прибором, который больше потребляет, чем производит, с мертвыми месторождениями, которые все равно используют. Энергия, тратившаяся на поддержку симуляции социального и его защиту от полного поглощения массой, огромна, и ее потери уничтожают систему. Если ранее капитал оказывал заботу только производству, а потребление итак было, то сейчас относительно потребления появились проблемы, следовательно, необходимо производить как товары, так и спрос, то есть производить потребителей. Бодрийяр приходит к мысли, что «производство спроса и производство социального – это одно и то же[258]. То есть, оба этих производства выступают в форме тождественности одного по отношению к другому. Также и власть сначала производила исключительно смысл, а спрос появлялся сам по себе. Но смысла не хватало, и благодаря этой нехватки революционеры, жертвуя, наращивали его производство. Сегодня мы замечаем переизбыток смысла… не хватает только спроса на него. Без спроса на смысл власть выступает не более чем симулякром. И это второе производство (спроса на смысл) значительно дороже, чем первое производство (самого смысла). Но хватит ли энергии системы на осуществление второго производства? Философ дает на этот вопрос отрицательный ответ. Дело в том, что спрос на товары и услуги всегда можно создать искусственным путем, но желание смысла и реальности, исчезнув один раз, восстановлению больше не поддастся.
Когда масса впитывает в себя социальную энергию, та перестает быть социальной. Масса уничтожает знаки и смысл, которые впитывает в себя. Все призывы по отношению к себе она поглощает, и тогда там, где они были, остается пустое место. Она безразлично и апатично пропускает сквозь свою прозрачность как воздействия, так информацию и нормативные требования. Ее бесполезно подвергать допросу, так как ее молчание, подобно молчанию животных, не позволит ей сказать, где для нее находится истина (на стороне коммунистов или демократов): у нее вообще нет ни истины, ни мотива. Власть стремится поместить массу в рамки пространства социальной симуляции с помощью СМИ, а масса и есть это пространство эха и социальной симуляции. Именно поэтому понятие манипуляции здесь не уместно. Это игра, и неизвестно, кто в ней выиграл: симуляция, с которой обрушилась на массы власть, или ответная симуляция, исходящая со стороны масс в направлении распадающейся под ее влиянием власти[259].
Бодрийяр говорит, что власть, сталкиваясь с массами, начинает разваливаться, ибо масса – это не сущность и не социологическая реальность, а отбрасываемая властью тень, разверзнувшаяся перед ней бездна, поглощающая ее форма[260]. И благодаря своему гиперконформизму, неустойчивости, туманности, податливости и пассивности молчаливое большинство повинено в гибели власти. Но в то же время вследствие своей имплозивности масса не склонна к взрывам и с революцией она поступает также, как и с властью – она нейтрализует революционные призывы, которые к ней обращают. Масса не критикует никакую идеологию, хотя сама лишена всякого рода идеологических позиций и ориентаций. Она сверхконформна.
Конечно, в определении массы мы далеко не во всем можем согласиться с Бодрийяром. Его концепция принципиально отличается от других теорий тем, что массы представляются философом пассивными – им не свойственны склонность к восстаниям и бунтам, в то время как другие исследователи (Ницше, Маркс, Лебон, Ортега-и-Гассет) наделяют массы этими характеристиками. Также мы находим в позиции Бодрийяра весьма серьезное противоречие: так, он одновременно говорит о том, что массы невосприимчивы к поступающей информации и неподконтрольны социальным институциям и вместе с тем они гиперконформны. Получается, философ ставит рядом две принципиально противоположные тенденции – конформизм и нонконформизм, которые уживаются внутри одного и того же явления – массы.
Но тем не менее, обобщая вышеприведенные концепции, можно сказать, что конформизм и бессубъектность выступает основополагающей характеристикой масс практически для всех ученых, занимающихся рассмотрением данного феномена.
Г. Ашин[261] рассматривает массу как совокупность деклассированных, дестратифицированных индивидов, аутсайдеров (безработные, заключенные и т.д.), и отождествляют ее с меньшинством, социальным остатком. Такой подход отличается четкой социологической направленностью и во многом не соотносится с собственно философско-культурологическим подходом; поэтому мы ограничимся обозначением его наличия и не станем подвергать его детальному анализу. Иногда представители высшего класса отличаются более низким культурным уровнем, чем выходцы из низов, что говорит о нецелесообразности придавать классу, статусу или уровню дохода критериальность, указывающую на уровень культурного развития индивида. Подобную мысль мы находим в работе Х. Ортега-и-Гассета, согласно которой массы и меньшинства есть внутри любого класса[262]. По нашему мнению, именно культурная среда, которой индивид наиболее подвержен и частью которой является, как раз и выступает критерием отнесения его к массе. Китч как низший уровень культуры характерен для масс.
Однако следует обратить внимание на некоторую близость понятий «массовая культура» и «масса». Если ранее мы отметили двойственное отношение к первому, то вряд ли можно поспорить с предельно критичным отношением ко второму. Негативизм к массе мы находим практически в любой литературе, уделяющей внимание этому явлению. Массе, как мы уже заметили, придают характеристики стадности, конформности, бессубъектности, ее противопоставляют с действительным обществом, которому присущи прямо противоположные черты. Иногда, конечно, встречаются исследования, авторы которых предпочитают воздержаться от оценочных суждений по отношению к массе, и их отношение к ней можно расценивать как нейтральное, но такие работы – довольно редкое явление. В марксистской литературе прослеживается позитивное восприятие массы, которая рассматривается через призму революционного поведения. Масса – и только масса – выступает субъектом революционных преобразований, и народные массы наделяются способностью захватить власть и осуществить эти преобразования. Но мы в нашем исследовании не намерены обращаться к марксистскому пониманию массы, так как последнее стоит рассматривать не в культурологическом смысле, а скорее в политическом. Собственно, масса в марксизме – синоним слово «народ» или «пролетариат», именно поэтому она и называется народной массой. Выделяются также понятия «публика», «умная масса» или «умная толпа», понимание которых отличается от понимания массы как бессубъектного образования, но они не являются предметом нашего анализа, так как мы не стремимся охватить и описать в настоящей работе все возможные определения массы.
И, несмотря на резкую критику массы, исследователи не склонны также резко критиковать массовую культуру, как и саму массу, в чем и заключается противоречие. Может быть, оно будет снято только тогда, когда мы отвлечемся от звучания названий интересующих нас явлений и лишим их какой-либо прямой взаимосвязи (абстрагируемся от фонетической созвучности). И тогда массовая культура будет уже не культурой массы, а культурой общества, то есть собственно большинства. Но нельзя так просто взять и разорвать эту взаимосвязь хотя бы потому, что в широком употреблении нет такого понятия, как «общественная культура». Таким образом, мы не можем полностью разрешить противоречие между различиями в отношении к массовой культуре и массе, но в то же время оно частично будет снято, если мы займем срединную позицию между двумя вариантами: 1) признание родственности и неразрывности этих понятий, 2) полное отрицание таковой родственности. По нашему мнению, между ними все-таки присутствует некий зазор, не позволяющий рассматривать первое как непременную характеристику второго (масса выступает непосредственным носителем массовой культуры). Но этот зазор не является пропастью, напрочь разделяющую их и лишающую вторую атрибутивного характера по отношению к первой (массовая культура не является атрибутом массы). Скорее всего, противоречие кроется лишь в названиях, фонетически похожих друг на друга и на первый взгляд (на слух) образующих некое тождество. Но на содержательном уровне, по нашему предположению, эти понятия намного более отдаленны друг от друга, чем на фонетическом, и в их семантическом пространстве это противоречие сглажено. Если бы мы считали массовую культуру атрибутом только массы, учитывая вышеназванные характеристики второй, то наверняка ее трудно было бы назвать культурой, поскольку ничего созидательного мы бы в ней не нашли; скорее, бескультурье. И тогда пришлось бы полностью согласиться с теми сугубо негативистскими, а потому редукционистскими оценками масскульта, которые мы уже приводили. Была ли у варварских племен хотя бы какая-то культура и можно ли ее назвать массовой? Если и было что-то массовое, то существительное «культура» вряд ли сюда подходит. Что же касается именно культуры масс, то Х. Ортега-и-Гассет сводит ее к самому настоящему варварству и лишает ее возможности называться культурой[263]. Мы же склонны утверждать китч культурой масс.
Мы можем выделить два понимания соотношения массы и общества:
1. Современное общество благодаря процессам урбанизации и индустриализации, возникновению крупных городов (мегаполисов) и технических средств распространения информации превращается в массовое общество. В таком случае мы находим близость (если не тождественность) понятий современного общества и массы. Эквивалентом массовости здесь выступает совсем не «низкий уровень культуры», а в первую очередь «серийность» (производства), «тиражированность», «множественность». Такой подход мы назовем социологическим.
2. Масса и общество – явления не только не тождественные, а качественно противоположные; они поддаются рассмотрению через призму культуры. Масса – представители низших уровней культуры (китч), а общество – высших (мид, арт). Этот подход мы именуем культурологическим.
Процессы, упомянутые при раскрытии первого подхода, конечно, влияют на изменение общества, но вместе с тем оказывают воздействие на формирование массы как явления, в культурном смысле противоположного явлению общества. Так, Э. Тоффлер видел полную безликость в серийности фабрично-заводского типа, свойственной так называемому обществу Второй Волны, то есть индустриальной цивилизации Э. Тоффлер выделяет стандартизацию как один из основных принципов индустриального общества, но последнее рассматривается им как коммунистическое, так и капиталистическое[264]. И действительно, трудно поспорить с тем, что стандартизация не была присуща нашему недавнему прошлому, равно как и сегодня мы ее наблюдаем. Только, наличествуя в разных общественно-политических моделях, она представлена в разных обличьях и несет в себе различные идеи, сохраняя при этом свою сущность.
Только противопоставление массы и общества подчеркивает наличие субъектности внутри второго и ее отсутствия внутри первого. Обращаясь к классической литературе, мы находим подтверждение подходу, названному нами культурологичеким, у Лебона. Он рассматривал цивилизованный народ в виде пирамиды, вершину которой занимает немногочисленная группа ученых, артистов, изобретателей, писателей (двигателей культуры), посередине находятся образованные слои, а основание составляют темные массы[265].
В научной литературе мы встречаем также понятие массового общества, которое рассматривается как экстраполяция массы на общество как целое. Но если предположить, что таковая экстраполяция достигает своего предела, общество массовизируется и перестает быть самим собой, то есть на смену социуму приходит масса. Соответственно, массовое общество – термин внутренне противоречивый. Существует или общество или масса, но массового общества, казалось, быть не может. Мы предполагаем, что масса, как и общество, находят свое одновременное существование (сосуществование) как субъекты массовой культуры («субъект» здесь понимается в форме предиката, а не качества), но эти понятия вместо отождествления поддаются противопоставлению. Обращая внимание на массовую культуру, которую составляют три уровня – китч (низший), мид (средний) и арт (высший), - мы отождествляем массовизацию именно с уровнем китча. Общество же как поле относительно свободной жизнедеятельности субъектов характеризуется более высокими уровнями культуры – мидом и артом. Конечно, такое противопоставление может на первый взгляд показаться неуместным, но мы его используем не в наиболее широком контексте (политический, экономический и т.д.), а только в культурном, поэтому его нельзя обвинить в догматизме. Если продолжать данную логику, можно прийти к убеждению о том, что и массовая культура – такой же противоречивый термин, как и массовое общество. Однако это противоречие сокрыто лишь в фонетической составляющей данных терминов, и не стоит слишком серьезно к ней относиться. Массовая культура – это культура, принадлежащая как массе, так и обществу; массовое общество – это социальное пространство, содержащее внутри себя как массу бессубъектных индивидов, так и общество как находящуюся на более высоких ступенях культурного развития совокупность субъектов.
Итак, мы приходим к следующему выводу. Массовая культура – атрибут не только массы, толпы, но и практически всего общества, тех классов, групп и объединений, которые по определенным признакам «возвышаются» над массой (в прямом понимании слова). И в таком случае снимается аттрактивное противоречие между массой и массовой культурой. Становится вполне понятным и оправданным негативное отношение к первой и двойственное отношение ко второй.
Обратившись к описанным формам понимания субъекта, мы можем проанализировать массу в соответствии с этими формами. Если, приняв во внимание культурологический подход изучения массы, рассматривать ее внутри формы предиката, то ее можно назвать субъектом низших уровней массовой культуры, носителем идеологии культурных низов (бескультурья) и потребителем низкокачественной продукции китча. Однако, обратившись к статической форме, ввиду перечисленных характеристик представителей (индивидов, составляющих массу) масс едва ли можно назвать субъектами в подлинном смысле слова и обладателями субъектности, но саму массу как целостный организм можно представить активным субъектом (например, электорат с одинаковыми политическими предпочтениями). Несмотря на то, что конформизм по своей сущности не совместим с подлинной субъектностью, а конкретнее, с такими ее качествами, как целостность, самодетерминированность и осознанность, масса не обязательно проявляет конформность по отношению к чему-то внешнему (например, государство), а она конформна внутри себя, что и является внутренней целостностью. Таким образом, масса как единый организм может быть рассмотрена как субъект с позиции качества, но составляющие ее индивиды – нет. Если обратиться к форме противопоставления, то можно констатировать факт культурной противопоставленности (субъект-субъектной или субъект-объектной) масс и общества, масс и культурной элиты. Это частный пример рассмотрения одной категории согласно разным формам понимания, где внутри одного из них она вполне правомерно может быть субъектом, а внутри другого ей лишено в таком праве.
По Е.С. Валевич, масса существует в переходный период развития общества – в период аномии, когда старые нормы исчезли, а новые еще не появились. То есть, масса – это промежуточная стадия между двумя социальными периодами, каждый из которых обладает своей культурой, ценностями и нормами, отличными от другого. Но при этом исследовательница говорит о том, что социум не может жить без норм: если его члены не следуют прежним законам и предписаниям, значит, они следуют каким-то другим[266]. Нам представляется такое положение парадоксальным, так как – с одной стороны – масса помещается в определенный исторический период, характеризующийся отсутствием норм, а с другой – существование такого периода ставится под сомнение. Естественно, аномия не может быть абсолютной и предполагает определенную градацию по степеням, но и все общество в целом не может быть охвачено процессом массовизации. И совсем необязательно существует прямая корреляция между уровнем выраженности социальной аномией и степенью омассовления. В общем, мы не можем согласиться с постулатом, согласно которому массу следует рассматривать в контексте общественной аномии. Масса существует всегда и занимает достаточно широкое (по критерию количественной распространенности) социальное пространство. Возможно, период общественной аномии (как состояние потерянности или нормативной плюральности или, наоборот, нормативного дефицита) способствует еще большей массовизации общества, но в той или иной степени массовизация как таковая имеет место на любой стадии общественного развития. Даже в тихое и спокойное время, не предвещающее никаких серьезных изменений в общественной жизни, значительную часть общества составляет масса как совокупность послушных и конформных индивидов, утративших такие субъектные качества, как индивидуальный стиль мышления, рефлексивность и способность к управлению процессом своей жизни.
3. Облик человека массы
Но что же такое массовый человек? В научной и философской литературе мы находим много обликов и примеров описания массового человека. Но это не означает, что он многолик. На самом деле ему вообще не присуще никакое лицо. Ф. Ницше наделяет такого человека будничной душой, схожим «не с победителями на триумфальной колеснице, а с усталыми мулами, которых жизнь слишком уж часто стегала плетью»[267]. «Горе! Приближается время, когда человек не родит больше звезды. Горе! Приближается время самого презренного человека, который уже не может презирать самого себя.… Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий все маленьким. Его род неистребим, как земляная блоха; последний человек живет дольше всех. „Счастье найдено нами“, — говорят последние люди, и моргают. Они покинули страны, где было холодно жить: ибо им необходимо тепло. Также любят они соседа и жмутся к нему: ибо им необходимо тепло. Захворать или быть недоверчивым считается у них грехом: ибо ходят они осмотрительно… От времени до времени немного яду: это вызывает приятные сны. А в конце побольше яду, чтобы приятно умереть. Они еще трудятся, ибо труд — развлечение. Но они заботятся, чтобы развлечение не утомляло их. Не будет более ни бедных, ни богатых: то и другое слишком хлопотно. И кто захотел бы еще управлять? И кто повиноваться? То и другое слишком хлопотно. Нет пастуха, одно лишь стадо! Каждый желает равенства, все равны: кто чувствует иначе, тот добровольно идет в сумасшедший дом. „Прежде весь мир был сумасшедшим“, — говорят самые умные из них и моргают. Все умны и знают всё, что было; так что можно смеяться без конца. Они еще ссорятся, но скоро мирятся — иначе это расстраивало бы желудок. У них есть свое удовольствьице для дня и свое удовольствьице для ночи; но здоровье – выше всего. „Счастье найдено нами“, — говорят последние люди и моргают»[268]. Да, есть удовольствия, есть страстишки. Яд – средство ухода от гнетущей реальности, от свободы и ответственности, от полноценного существования… от жизни. И, самое главное, развлечения… Сегодня развлечения пронизывают многие сферы [недосуговой] социальной жизни. Эта диффузия наблюдается не только в дискурсе всяческих реалити-шоу, но и в дискурсе новостей, политических выступлений, научных передач и т.д. Развлечения, отвлекающие людей от серьезных мыслей, несут свой смысловой код по всей площади масс-медиа, осуществляя еще большую социальную массовизацию.
В другом месте знаменитого «Заратустры» мы находим следующие слова:
«Посмотрите же на этих лишних людей! Они крадут произведения изобретателей и сокровища мудрецов: культурой называют они свою кражу – и все обращается у них в болезнь и беду!
Посмотрите же на этих лишних людей! Они всегда больны, они выблевывают свою желчь и называют это газетой. Они проглатывают друг друга и никогда не могут переварить себя.
Посмотрите же на этих лишних людей! Богатства приобретают они и делаются от этого беднее. Власти хотят они, и прежде всего рычага власти, много денег, - эти немощные!
Посмотрите, как лезут они, эти проворные обезьяны! Они лезут друг на друга и потому срываются в грязь и в пропасть.
Все они хотят достичь трона: безумие их в том – будто счастье восседало бы на троне! Часто грязь восседает на троне – а часто и трон на грязи»[269]
Разве не о культурном декадансе говорит здесь Ницше? Разве не о меркантилизме и утилитаризме человека массы, для которого высшими ценностями выступают деньги и власть? Их интересы сводятся до «желчных» (в современном варианте лучше использовать термин «желтые», от «желтая пресса») газет, материальному благосостоянию в ущерб духовному богатству. Воистину, человеческое, слишком человеческое…
Массовый человек не пытается стать выше себя, не веря в то, что существует более высокий уровень развития. Ему свойственно считать, что он достиг своего совершенства, а интеллектуально-духовный путь развития представляется им тупиковым и совершенно ненужным, так как он не облегчает достижения желаемых ценностей – власти и денег. И того, и другого можно достигнуть, не утруждая себя мыслительной деятельностью. Скорее даже наоборот, духовное совершенствование является антиподом тому пути, который ведет к овладению данными ценностями, так как силы, затрачиваемые на учение, могут быть направлены совершенно в другое русло, на присвоение и приобретение материальных ценностей взамен духовных. Поэтому массовый человек, нисколько не комплексующий по поводу своего статуса, высокомерно относится к интеллектуалам, так как считает их род деятельности глупым и бесполезным. В этом и заключается его вульгарность. Примерно о том же самом пишут Т. Адорно и М. Хоркхаймер, когда говорят о культуриндустрии, которая воздействует на потребителя не путем диктата, «но благодаря использованию внутренне присущего развлечению принципа враждебности всему тому, что является чем-то большим, чем оно само»[270].
Но, с другой стороны, он может понимать свою косность и ограниченность, но это понимание не стимулирует его к самосовершенствованию, не придает ему мотивацию к этому благородному процессу. Единственное, к какому результату оно ведет, так это к пробуждению ненависти к «другим», отличающимся от масс (согласно Х. Ортеге-и-Гассету, масса ненавидит все отличное от нее). Представляется, что за этой ненавистью и озлобленностью зачастую скрывается обычная зависть к тому, кто лучше, благородней, умнее и утонченней. Если человек не такой, как все, то он достоин всеобщего порицания. Это легко заметить на примере школьного класса, состоящего из двоечников и одного отличника. С большей долей вероятности можно сказать, что именно он – «ботаник», как его презрительно называют одноклассники – будет являться козлом отпущения. Особенно сильно и наглядно будет проявляться эта тенденция в случае большого разрыва между интеллектуальными способностями отличника и таковыми способностями всех остальных. Казалось бы, эта фраза как вытекающая из предыдущего предложения является очевидной и не требующей фиксации в тексте, но далеко не всегда отличник отличается высоким умом и сообразительностью, равно как не всегда двоечник ими обделен.
В общем, в своем исследовании мы вычленяем такие бинарные оппозиции, как общество-масса и субъект-массовый человек. Первое звено в этих двоичных связках характеризует подлинность, а второе – неподлинность (говоря языком экзистенциализма). Если феномен массового человека становится широким и всепоглощающим, то закономерным образом общество массифицируется, а культура становится однообразной. Если же происходит демассификация индивидов, то на более масштабном уровне население тоже демассифицируется, что приводит к усложнению и многообразию культурного потенциала данной социальной среды. И лишь субъектные качества, степень их развития на данный момент (актуальный уровень) и стремление к саморазвитию в дальнейшем (потенциальный уровень) являются неким гарантом подлинности как отдельного субъекта, так и присущей ему общности, усиливающим возможность противостоять внешним давлениям и манипулятивным воздействиям. Человек, стремясь сохранить свою субъектность, всеми силами старается противостоять слиянию с массами, то есть реализует негэнтропийный механизм своего развития, который характеризуется в синергетике так: сложная нелинейная система эффективно противостоит разрушительному действию хаоса только в том случае, когда она находится вдали от равновесия по отношению к окружающей среде, то есть не сливается со внешней массой. А состояние равновесия со средой, по замечанию Н.М. Калининой, равнозначно смерти[271]. Конечно, в случае изучаемого нами явления – массы – смерть стоит понимать не в прямом (физическом) смысле, а в психическом, культурном и социальном.
Но возникает вопрос: как же происходит процесс массификации? В соответствии с первым вариантом массифицируются те индивиды, чья субъектность недостаточно развита для того, чтобы противостоять омассовлению (причина внутренняя). Согласно второму варианту омассовление уничтожает субъектность независимо от уровня ее развития на данный момент (причина внешняя). Равно как неясен процесс демассификации. Или внутри массовой общности все-таки появляется рецидив развития субъектных качеств, которые впоследствии дают возможность расшатать однообразность и косность массового сущестования (причина внутренняя). Или же демассификация происходит только тогда, когда индивид перестает получать извне соответствующие команды и приказы и по тем или иным причинам внешняя среда перестает на него воздействовать спецификой своих установок, вкусов, интересов и направленностей (причина внешняя).
По нашему мнению, обе причины – как внешняя, так и внутренняя – имеют огромное значения в контексте как массовизации, так и демассовизации. Естественно, уровень саморазвития говорит о способности субъекта противостоять культурной ущербности и безликости. Но вместе с тем, если человек по тем или иным причинам постоянно находится в соответствующей «одномерной» среде, где его окружают только культурный нигилизм, то, несмотря на уровень сформированности его субъектных качеств, в процессе времени будет наблюдаться некоторая их деградация, так как психика любого из нас все равно в определенной степени подстраивается к той реальности, которая ее окружает. Недаром говорят, что яблоко от яблони недалеко падает. Но характер взаимодействия этих причин можно рассмотреть и как взаимоисключающий. Так, чем более сформировано внутреннее по принципу целостности, осознанности и самоуправляемости, тем большим барьером оно является для внешнего. Но и чем более сформировано внешнее по принципам одномерности и однолинейности влияния (предлагается, например, только продукция самого низкого китча без всякого разнообразия и альтернатив), тем труднее сопротивляться внутреннему при таком постоянном навязчивом воздействии. Тут на ум приходит пословица «капля камень точит».
М.В. Колесник объясняет причину появления человека массы, обращаясь к принципу машинности, в котором видит расчленение деятельности на отдельные операции и оптимизацию каждой из них. Из-за экспансии машинности в непроизводственную область появился идеал узкого специалиста, повлиявший на формирование массы. Человеком массы М.В. Колесник называет специалиста, овладевшего достаточно простой частичной операцией, который воспринимает другого как такого же специалиста. Этот человек благодаря своей одномерности стремится свести свое бытие к простейшим операциям, в которых количественные характеристики потребления жизни значительно превосходят качественные аспекты духовной самоотдачи, связанной с глубокой и целостной мыслительной работой[272]. Нам кажется подход автора немного утрированным, так как едва ли мы найдем какую-либо профессиональную сферу деятельности, где требуется овладение только одной операцией. Но в целом этот подход понятен в том, что «массовый» человек отличается предельно узким охватом деятельности. То есть, машинный принцип рождает узкоспециализированные кадры, которые, возможно, способны хорошо выполнять свою трудовую деятельность, но сфера этой деятельности не распространяется вширь и не предполагает никакой поведенческой (и мыслительной) гибкости. И это отсутствие гибкости, ригидность, генерализируется на все сферы жизни человека, выходя за рамки его профессиональной области, так же как происходит экспансия машинности в непроизводственную область.
Л.Е. Климова выделяет такие факторы формирования отечественной массовой культуры, как социально-экономический (поточно-конвейерный характер индустрии, дефицит высокохудожественных произведений, застой в экономике, что привело к культурному голоду), политический, воспитательно-образовательный (технократическое мышление и дефицит гуманистичности в образовании, повлекшие утрату духовности и нравственности), нравственно-психологический (проблема отчужденности, индивидуализма и разобщенности, связанные с этикой протеста и политическим противостоянием)[273]. Несмотря на то, что исследовательница говорит именно о факторах формирования масскульта, а не «массового» человека, эти факторы представляются интересными и для нашего исследования. По крайней мере эти явления, естественно, накладывают свой отпечаток на сознание и поведение индивида.
Одна из основных причин появления «массового» человека – это воздействие средств массовой коммуникации на сознание индивида, его субъектность, а значит, наличие СМК и их удельный вес в общественной жизни является одним из условий появления massmanа. В свою очередь, СМК появляются благодаря развитию и усовершенствованию новых коммуникационных технологий. Существует мнение о том, что массовизация общества происходит благодаря широкому вторжению технических средств культурной пропаганды[274]. Можно сказать, что массовый человек формируется отчасти благодаря научному прогрессу, связанному с информационными технологиями, и «эволюция средств массовой коммуникации обусловливает изменения структуры культуры»[275]. СМК задают стереотипы поведения, формируют ценности, и этот процесс программирования совсем необязательно имеет навязчивый характер.
Х. Ортега-и-Гассет видит в качестве условия появления «массового» человека технический прогресс, благодаря которому мир теперь не ставит перед человеком запреты и ограничения, а бередит его бесконечно растущие аппетиты[276]. Естественно, это может выступать одной из причин появления массового человека, хотя таковой детерминантой следует считать не сам технический прогресс, а пришедшая вместе с ним культура потребления с ее гедонистично-безответственными идеалами пожирательства благ.
Многие исследователи связывают между собой время появления массовой культуры (середина ХХ века) и начало так называемого омассовления человека. Однако не стоит забывать, что не только масса с присущими ей бессубъектными качествами является носителем масскульта; массовая культура влияет на все общество в целом и является достоянием всего социума. Поэтому не совсем правильно будет предполагать, что масса появилась вместе с массовой культурой. На самом деле масса как совокупность десубъективированных индивидов существовала всегда. В любую эпоху имели место конформизм, следование за модой и т.д. – те тенденции, которые лишали человека истинной субъектности и омассовляли его. И несмотря на отсутствие средств массовой коммуникации и массовой культуры как таковой во все предшествующие эпохи существовали массы – послушные и конформные, утратившие свое собственное мнение и мировоззрение и готовые идти за лидером. Кроме того, причиной омассовления зачастую служила государственная политика – тоталитарная или авторитарная, - которая боялась активного вмешательства народа в политическую жизнь и поэтому пыталась, прибегая к массовой культуре (в основном, к ее самым низам, китчу) и средствам массовой информации, отвлекать от серьезных вопросов, предлагая множество всяких развлечений. К ним можно отнести теле- и радиопередачи, всевозможные ток-шоу и т.д. – все то, что дает реципиенту возможность отдыха и расслабления, и во многом благодаря своему наивно-развлекательному характеру противопоставляется мыслительной деятельности. И результат - омассовление, деинтеллектуализация, десубъективизация. Скорее даже, государство не прибегает к помощи массовой культуры, а оно в некотором роде само ее формирует. Это проявляется не только в развлекализации жизни, которая приводит к интеллектуальному отупению и отвлечению от по-настоящему важных проблем страны, но и в узколобом навязывании воли путем обмана народа, ликвидации свободы слова и печати, мифологизации новостей и спекуляции на высших ценностях и идеалах (напр., устанавливается однозначный авторитаризм, а утверждается, что у нас свобода и демократия). Именно эти тенденции характерны и для нашего времени, и партия власти – «Единая Россия» - играет особую роль в политическом одурманивании народа.
Согласно концепции Э. Канетти, масса появляется благодаря чудовищному приросту населения и характерному для современности разрастанию городов. А основная причина, порождающая массу, - страх перед прикосновением неизвестного[277]. И снова мы видим упоминание об утрате в массе индивидуальных различий. Боясь неизвестного, проявляя эскапизм по отношению к каким-либо проблемам и тяжелым переживаниям, проще слиться с некоей общностью, тем самым убежав не только от ответственности, но и от свободы. Тогда проходит экзистенциальный дискомфорт, страх, тошнота, - ведь субъект исчезает, и этот дискомфорт и страх испытывать становится некому.
По мнению К.А. Овчинниковой, массовая культура появилась благодаря отрицательным тенденциям глобализации, под которыми понимается становление общества сетевых структур, всеобщая стандартизация и внедрение унифицированных моделей поведения, мышления, стиля и образа жизни, разработка направленных на управление сознанием метатехнологий, нравственный кризис науки и техники, кризис культуры[278]. Стоит заметить, что исследовательница говорит о причинах появления не «массового» человека, а массовой культуры, хотя, как нетрудно убедиться, она придает негативное значение масскульту. И в то же время причины, ею выделенные, можно экстраполировать на контекст омассовления как общества, так и отдельного человека.
Некоторые авторы очень узко подходят к проблеме причин появления массовой культуры и массы. К примеру, О.О. Гомбоева к таковым относит процесс превращения отечественного телевидения в сферу «свободного предпринимательства», его коммерциализация, которая отразилась на формировании ценностных ориентаций народа, в особенности студенчества[279]. Создается впечатление, что появление и состояние массовой культуры зависит только от состояния даже не СМИ в целом, а лишь телевидения. Выделенное условие, конечно, имеет право на существование, но не является ни главным, ни единственным, а «встроено» в многообразие условий как одно из его составляющих, как частный элемент.
Омассовление, которое характерно для нашего времени, во многом, как уже было замечено, вызвано новыми технологиями. То есть, неуклонно протекающий технический прогресс имеет свой эрзац, побочный эффект, который выражен в антропном кризисе, переоценке ценностей и т.д.
Таким образом, мы описали несколько условий омассовления общества, многие из которых были актуальны как в предшествовавшие эпохи, так и сегодня не потеряли свою значимость. Если обобщить эти условия в единый комплекс, в него войдет весь спектр воздействий на человека, мешающий развитию его подлинных субъектных качеств (автономность, сознательность, целостность) и вместо них формирующий определенное мировоззрение, навязанное извне. Кроме того, данному комплексу могут принадлежать не только внешние воздействия, но и внутренние (интрапсихические) феномены, позволяющие безоценочно принимать и усваивать результаты внешнего влияния. То есть, все условия омассовления можно разделить на две категории:
1) внешние – стандартизация производства, политическое мифотворчество, мода и реклама, китч-культура, СМИ, семейное воспитание и т.д.,
2) внутренние, связанные с индивидуальными качествами человека – глубина потребностной сферы, мнительность, конформность, шаткость мировоззренческое позиции и т.д..
Но иногда внутренние условия на самом деле можно рассматривать не как условия или причины омассовления, а как следствия внешнего воздействия. Так, убогость внутреннего мира может быть следствием постоянного «вращения» человека внутри соответствующей среды, пропитанной гламуром телепрограмм (досуг) и единообразием труда (работа). Хотя и об обратном процессе такого механизма спорить не всегда приходится.
В общем, обозначенный нами комплекс возможных условий возникновения «массового» (одномерного, ограниченного и т.д.) человека достаточно широк и поэтому не поддается четкой систематизации. Нельзя, выхватив из него какое-то одно звено, сказать, что именно оно в наибольшей степени повинно в культурной деградации человека. А само слово «комплекс» мы здесь используем весьма условно, считая, что настоящий комплекс еще предстоит описать. В процессе времени, идя рука об руку с прогрессом цивилизации, он – этот комплекс – становился все шире и шире, обогащался все новыми элементами, превращаясь тем самым в своеобразную мегамашину.
И поскольку эти причины сопутствовали любой эпохе, трудно дать однозначный ответ на вопрос: «когда именно появился человек массы?». Более правомерно будет остановиться на позиции, согласно которой «массовой» человек существовал всегда, и каждой эпохе были присущи «свои» условия возникновения «массового» человека, но не в каждую эпоху можно было увидеть омассовление на таком глобальном уровне, как сегодня.
Безусловно, не стоит понимать описанного нами «массового» человека (равно как и его противоположность – подлинного субъекта) как некий идеальный образ, как чистую монету, отличающуюся исключительной пробой. «Чернь как таковая, судя по всему, не существует, однако существует что-то от черни. Потому что чернь есть в телах и в душах, есть чернь в индивидах, в пролетариате, что-то от нее есть и в буржуазии, однако же в расширительном смысле имеются разные ее формы, энергии, несводимости»[280]. И хотя эти слова М. Фуко описывают не массу, а чернь, которую французский мыслитель ставит не в культурологический, а в политический контекст, нам кажется идея Фуко достаточно близкой для кодификации «массового» человека и массы. Хоть мы и пользуемся этими понятиями, верифицировать массу, указывая пальцем на конкретных людей, далеко не всегда представляется возможным. Массовость существует в разных людях независимо от их возраста, социального положения, уровня образования и материального достатка, хотя некоторые их перечисленных факторов все же могут играть роль в оценке этой массовости, ее степени присутствия.
Глава 3. Специфика субъектности в современном обществе потребления
1. Фиктивность и знаковость общества потребления
В гуманитарных науках фиксируется широкое контекстуальное поле, внутри которого фигурирует категория субъектности. Выделяются субъект общения, познания, игры и т.д. Этот список можно продолжать. Как культура вообще, так и массовая культура может выступать специфическим по своей широте контекстом (как, например, бытие или деятельность), в пределах которого можно мыслить субъекта. Но понятие «субъект массовой культуры» в своем содержательном смысле имеет мало общего с подлинным субъектом, описанным нами в главе 1, и с его характеристиками. Субъект массовой культуры – это не субъект в том значении, которое нас интересует, а просто человек, помещенный внутрь широкого контекста масскульта; такое использование категории «субъект» подходит более предикативной форме понимания, а не статической (наделяющей субъекта внутренними качествами, в своей совокупности составляющими субъектность как основную характеристику субъекта). А поскольку каждый член общества в той или иной форме подвержен воздействию массовой культуры, любого индивида можно конституировать как субъекта массовой культуры. Так, выделяется индивидуальный и массовый субъект массовой культуры[281]. Но проблема заключается в том, насколько этот субъект является подлинным и сохраняет свои субъектные качества, и каким образом происходит влияние массовой культуры на субъектность.
В современном глобализирующемся мире несомненно влияние продуктов массовой культуры на человека. Однако остается не совсем понятным специфика этого влияния. Как уже было отмечено, нельзя обобщить всю массовую культуру до какого-то одного неделимого целого, которое функционирует подобно единому организму и оказывает единое в своей направленности воздействие на субъектность человека. Намного более логичным будет представляться предположение, согласно которому массовая культура подлежит разукрупнению на уровни, каждый из которых по-своему влияет на субъектность, и в целом, объединяя эти уровни, нельзя обобщить их воздействия до одного целенаправленно функционирующего механизма. То есть, продукция одного уровня уничтожает субъектность, другого – ее конституирует, действие третьего нельзя свести ни к первому, ни ко второму. Но в этом параграфе мы, не акцентируя внимания на специфике влияния каждого из этих уровней на субъекта в отдельности, обратим внимание на более широкую проблему – субъекта в массовой культуре, присущей современному обществу потребления, в целом.
Огромная индустрия, которая производит не только товар, но и спрос на товар, тысячи брэндов, торговых марок и журналов, рекламирующих все что угодно, города, испещренные магазинами и салонами, улицы мегаполисов, в которых чуть ли не каждый столб и чуть ли не каждая стена представляют из себя рекламу того или иного продукта, десятки тысяч людей, занятых в индустрии производства как товаров, так и потребностей на эти товары. Такое перечисление характерно для нынешней – потребительской – эпохи.
Но что же такое общество потребления? И чем оно отличается от других общественных формаций? Казалось бы, люди всегда покупали и продавали, чем-то владели, тратили деньги, всегда желали жить в богатстве и роскоши. Так почему прежние эпохи не связывают с понятием «потребление»? Современное общество рассматривается через призму потребительства не потому, что его индивиды лучше питаются, чем их предшественники, не потому, что распоряжаются большим количеством технических средств, не потому, что используют больше образов и сообщений, наконец, не потому, что удовлетворяют свои потребности. Объем благ и степень удовлетворяемости потребностей – это условие появления потребления, а не его сущность. Потребление – это знаковая субстанция, «виртуальная целостность всех вещей и сообщений, составляющих отныне более или менее связный дискурс,… деятельность систематического манипулирования знаками»[282]. Это сфера «всеобщей аксиоматики, кодированного обмена знаками…»[283]. Суть потребления заключена не в возможности приобрести рекламируемый товар, а в желании это сделать; потребление локализовано не в кармане, а в сфере желания. Бедные также «больны» потребительством, как и богатые, и «заражаются» они также посредством механизмов социализации.
Потребительство – это система социокультурных связей, где социальная идентификация построена не в сфере труда и производства, а вне работы – прежде всего в развлечениях. Если ранее стратификация общества основывалась на месте работы, на месте социальной системы распределения труда, то теперь классификационным первенством обладает стиль жизни, на который указывает тело, одежда, машина, место отдыха и т.д.; эти атрибуты говорят не о жестком социальном статусе, а с помощью них владелец сам конструирует свой предъявляемый другим образ – символически сконструированный[284]. Идеалы и ценности здесь перестают быть самими собой и превращаются в пустые знаки, происходит погружение человека в ирреальный мир знаков, которые, как он верит, принесут ему социальный престиж и счастье. Эта знаковость выступает первичной характеристикой общества потребления (богатство и излишество – это уже вторичная его характеристика). Человеческие отношения – отношения потребления – становятся опосредованы вещами-знаками: интегрированными в строй производства предметами покупки и потребления становятся не только вещи, но и потребности, чувства, знания, желания, страсти и сами отношения. Еще Г. Маркузе писал об индустриальной цивилизации, которая превращает в потребность неумеренное потребление, где общественный контроль коренится в новых потребностях, которые производятся обществом[285].
Так, семейная пара ежегодно обновляет обручальные кольца и «отмечает» свои отношения покупками, что есть потребление вещей, которые символизируют отношения между людьми – иногда даже пустые отношения, которые сохраняют устойчивость только благодаря реализации такового потребительского культа. Или же (другой пример) стремление к революции потребляется идеей революции и не ведет к активным действиям. Потребление неистребимо и беспредельно, так как основано на дефиците реальности. Если бы оно было просто поглощением благ, то наступило бы пресыщение, потребности бы удовлетворились, однако людям хочется потреблять все больше и больше, и это желание исходит не из-за какой-то психологической фатальности (типа алкоголизма) или требования престижа, но просто потребление – это тотальная идеалистическая практика, имеющая мало общего с удовлетворением потребностей или с принципом реальности; «умеренного» потребления не бывает. Обществом потребления является то, где не только культивируется желание покупать, но где само потребление потреблено в форме мифа; эра потребления – это вместе с тем эра отчуждения (хотя, учитывая концепт «смерть субъекта», отчуждения не существует, так как в эпоху потребления отчуждено все и отчуждаться становится некому и не от чего); потребительство – утрата смыслов и игра знаков, это бессознательный и неорганизованный образ жизни (пусть народ удовлетворяется потребительством, лишь бы он оставался неорганизованным и не поднимался на общественную и политическую сцену)[286]. Поэтому мы можем говорить о потребительстве как о системе общественного омассовления, а беспредельность потребительства основана на том, что оно имеет дело не с вещами, а с идентифицируемыми с ними культурными знаками, обмен которыми бесконечно нарастает. Все это позволяет нам сказать – используя бодрийяровский концепт «соблазн», - что потребительство соблазняет своей бессмысленностью, своей пустотой, предлагая игру в пустоту, которую таковой никогда не называет. Она предлагает нечто, красивую обертку знака (также как реклама предлагает внешнюю красоту упаковки), за которой скрывается… ничто. И это самое ничто вызывает соблазн, выступая ценностью, а иногда даже смыслом жизни.
Общество потребления поглощает материальные ресурсы, но пресыщения и вправду не возникает, так как потребности не только удовлетворяются, но и создаются фиктивные потребности, которые, в свою очередь, тоже требуют удовлетворения; одновременно производятся блага и потребности. Потребление действительно проникает во все сферы жизни общества. Потребительство вполне уподобляемо любому аддиктивному типу поведения (алкоголизму, курению или наркомании), который представляет из себя замкнутый круг, где результатом удовлетворения потребности выступает возникновение той же самой потребности, которая снова и снова требует заветной дозы; и чем больше мы идем на ее поводу, чем больше ублажаем ее, тем в большей степени она овладевает нами. И в конечном счете процесс перестает приносить удовольствие и перерастает в тяжелую зависимость, от которой трудно отказаться. Вроде и удовольствия уже нет, но отказаться от привычного образа жизни все равно трудно. И если эта зависимость – подобно масскультурному потребительскому идеалу – санкционирована обществом а потому не только не осуждается, а даже восхваляется, человеку становится еще труднее ее преодолеть, пойти наперекор социальным нормам.
Некоторые авторы рассматривают общество потребления, исходя из постулата о том, что потребительский характер находит воплощение в описанном Фрейдом анальном характере личности, которому свойственна скупость, стремление к накопительству, скаредность и желание удерживать все нажитое в своей власти. Другие же исследователи, наоборот, придают потребительству иную форму описания; по их мнению, потребительство характеризуется не накопительством, а постоянной тратой. То есть, беря во внимания обе формы описания, мы наблюдаем два полюса: на одном полюсе находится стремление удержать обладаемый объект, а на другом – стремление его потерять, растратить. По нашему мнению, стоит наибольшее значение придавать именно первой форме описания, так как вторая – лишь поверхностный взгляд на вещи. Вовлеченный в круговорот потребления человек транжирит деньги не ради самой траты, а ради получения за их счет определенных благ. То есть, он вовлекается в вихрь обмена, где одни блага (финансы) меняет на другие (автомобиль, вечеринки в ночных клубах, евроремонт в квартире), которые являются символом его успешности и статусности. Он не теряет денежные ресурсы, а покупает на них другие блага, этим актом удовлетворяя ту же самую склонность к накопительству. Только копятся не деньги, а достоинства, обладая которыми, он предстает в максимально ярком свете в глазах окружающих. Так, человек, проигрывающий в казино, вместе с тем демонстрирует свою приверженность к особому классу людей – игроков казино; он показывает другим размер суммы, которую может позволить себе проиграть[287].
Исходя из сказанного, мы убеждаемся в отсутствии противоречия между приведенными двумя формами описания потребительского характера. Когда мы говорим о стремлении к накопительству, необходимо уточнять, что именно накапливается. Или это деньги, или удовольствия, или уважение. В современном мире деньги пытаются сохранить в основном люди преклонного возраста, в то время как для молодежи это не является особой ценностью. Но если молодой человек тратит в ночных клубах за одно посещение половину своей зарплаты, это не значит, что он не реализует свое потребительское стремление к обладанию; просто путем осуществления более или менее эквивалентного обмена объект обладания меняется с денег на удовольствия – знак труда меняется на знак престижа или удовольствия, в чем заключается символический обмен. Но учитывая сомнительный характер многих удовольствий, их следует обозначить скорее не благами, а псевдоблагами (также как выделяются псевдопотребности и фиктивные потребности). Эта сомнительность обусловлена не только банальным вредом для психического и физического здоровья, который приносят некоторые удовольствия, но и неестественностью самих этих удовольствий, их искусственной сконструированностью (например, некоторые разновидности компьютерных игр, не развивающих психические процессы ребенка, а наоборот, приводящие к их деградации).
Но что же такое фиктивные потребности? Это псевдопотребности, это определенный эрзац потребностей, навеянный нам современной потребительской культурой, согласно которой потреблять надо по-максимуму. Фиктивные потребности не осознаются субъектом как фиктивные. И средством создания в потребителе фиктивных потребностей выступает фиктивный товар, который не удовлетворяет никакой – реальной – потребности. Изучая ассортимент подобных товаров, невольно удивляешься тому, что только не придумает богатое человеческое воображение. Поистине, торговать можно всем, хоть воздухом. И на самом деле торгуют всем чем угодно: от оккультных услуг до всевозможных безделушек. Но фиктивные потребности не ограничиваются существованием фиктивных товаров, но и предполагают существование – назовем их так – полуфиктивных товаров. Это предметы потребления, которые необходимы для удовлетворения некоей реальной потребности, но вместе с тем напичканы таким количеством функциональных особенностей, большинство из которых просто не находит своего применения. Наиболее характерный для современности пример – это сотовый телефон, который постоянно усовершенствуется и потому находится в динамическом процессе технического становления. Соответственно, новые модели, приходящие на смену старым, отличаются значительно большей ценой. Но люди их покупают совсем не для того, чтобы пользоваться всеми особенностями и «наворотами» приобретенной модели – казалось бы, никакого утилитарного значения здесь нет, - а лишь затем, что это модно. На самом деле утилитарное значение есть, но его можно обозначить как символическое. Не используя всего многообразия функций новой покупки, мы тем не менее дорожим ее функциональными достоинствами, так как они возвышают заодно и нас – обладателей вещи – в глазах окружающих. «Чем круче твой телефон, тем большую социальную ценность приобретаешь и ты». Поэтому в современном обществе изобилия, где утилитарная полезность выступает главной ценностью (оппонируя так называемой духовности, духовной пище), все вещи рассматриваются через ее призму (при этом не стоит путать данную форму полезности с качеством вещи, ее долговечностью). Но полезность может быть двух видов: прямая и символическая. Поэтому едва ли можно говорить о том, что предмет, у которого есть невостребованные его обладателем функции, не имеет полезности. Он не обладает ею в прямом смысле, но при этом содержит в себе символическую ценность. Например, коллекционирование старинных вещей, которые могут быть лишены практического применения и даже эстетической привлекательности, имеет символическую подоплеку; основным в таком случае их качеством, указывающим на высокую ценность вещи, будет старинность, а не красота и не применимость в хозяйстве. Что же касается дорогих телефонов с невостребованными функциями, то они обладают обеими формами полезности: 1) их используют для звонков, передачи СМС и т.д. (прямая), 2) они служат доказательством социального статуса их обладателя (символическая). Но в данном случае – при сравнении коллекционирования продуктов искусства с постоянной сменой сотовых телефонов – символическая полезность последних граничит с псевдополезностью. Польза – это результат, служащий удовлетворению реальной потребности. Символическая польза – результат, служащий удовлетворению символической (например, эстетической) потребности. А псевдопольза – это результат, служащий удовлетворению фиктивной потребности. А разве стремление подчеркнуть свой статус с помощью дорогого телефона не является фиктивной потребностью? Разве это не регрессия, не симулякр могущества обладания?
Это – очередное средство самовыражения, демонстрации мнимого отличия от окружающих. Однако его мнимость заключена в том, что такая консъюмеристская тенденция настолько распространена, что становится модной общесоциальной тенденцией, а значит, следование ей не отличает, а, наоборот, унифицирует субъекта. Как отмечается, в последнее время значительное число российского социума стремится проявлять свое «Я», демонстрировать свой имидж и материальное благосостояние в глазах окружающих с помощью мобильного телефона, а для определенных общностей он является универсальным стратификационным инструментом; сам же факт обладания сотовым телефоном выступает стратификационным маркером[288]. Мы бы сказали, что таковым маркером раньше выступал факт обладания сотовым телефоном, поскольку несколько лет назад его наличие особым образом подчеркивало статус. Теперь же он стал общедоступным, а потому сейчас только хороший – современный – сотовый телефон может выступать инструментом демонстрации особо высокого общественного положения. А поскольку технологии стремительно бегут вперед, трудно слово «современный» идентифицировать с какой-либо конкретной моделью телефона. Современный – это тот, который был создан пять минут назад, а еще через пять минут он станет устаревшим, так как его место займет следующая – более усовершенствованная – модель. Массовость данной тенденции заключается в том, что в гонке за обладание последними моделями участвуют даже те [преимущественно молодые] люди, социально-экономическому положению которых данные модели не соответствуют в силу их дороговизны. То есть, каждый участник гонки старается повысить свой статус в глазах окружающих и в глазах самого себя благодаря такой дорогой покупке – этого символически сакрализированного психологического убежища, сакрального искушения пустотой – и тем самым искусственным образом прировнять себя к экономической элите. Мы можем констатировать совершенно нерациональную природу данной тенденции. Производители эксплуатируют на чувстве идентичности потребителя, играют на нем, предлагая товары, как бы являющиеся залогом счастья и успешности их обладателя, несмотря на то, что отождествление товара с образом победителя является ни чем иным, как очередным мифом.
То же самое происходит и с культивированием других продуктов, а не только мобильных телефонов. Так, успешный и уважающий себя человек должен иметь не только мобильный телефон самой последней модели – то есть, постоянно менять их, чтобы «идти в ногу со временем», - но достаточно часто менять автомобили, несмотря на то, что прежний автомобиль вполне способен служить верой и правдой еще десяток лет. Культурное старение изделий происходит намного раньше их физического износа. То есть, каждая новая модель какой-либо вещи, только что появившаяся на рынке, расценивается как научно-техническое изобретение, которое в обязательном порядке следует приобрести – предмет массового обожания, фетиш. Похвастаться новым приобретением – святая обязанность. Но такой образ жизни не только по сути своей бессмыслен, но и – хуже того – ведет к хищническому расточению ресурсов, которые, как известно, ограниченны. Внутренняя псевдопотребность потреблять приводит к ускорению оборота товаров. Современная технократическая потребительская цивилизация ненасытна в принципе, а потому и антиприродна. Она расточает ресурсы так, что превращается во врага биосферы, во врага природы и заодно в паразита-самоубийцу, если рассматривать данное явление в глобальном – планетарном смысле. А сам научно-технический прогресс трансформируется в орудие убийства. Поэтому вполне оправданы прогнозы ученых о грядущей экологической катастрофе; обглоданная планета на безумное потребление может серьезно отреагировать. Отреагировать криком в попытке привлечь внимание жадного человека-потребителя, который, наплевав на экологию, перестал быть человеком разумным. Эта катастрофа возможна, несмотря на идеи постмодернизма, согласно которым мы уже живем в постапокалиптическом обществе, что апокалипсис позади, что нашим апокалипсисом является наступление виртуального, которое лишает нас реального конца. Если эти постмодернистские воззрения относятся скорее к концу не самой реальности, а восприятия человеком и обществом реальной действительности [хотя философия постмодерна склонна к отождествлению реальности и ее восприятия], которая вытесняется потоками симулякров, то симулякризация на уровне потребления – угроза не только восприятия реальности, но и самой реальности.
Становятся понятны отдающие эсхатологией предзнаменования о всяких концах, в том числе конце истории, в ходе которой проблемы не решаются, а, наоборот, накапливаются (Ж. Бодрийяр, например, в разрушении Берлинской стены видит всего лишь раскаяние, а не великое «историческое» событие[289]). В эпоху потребления история регрессирует, перед ней нет нового вектора движения.
Безудержное потребительство не только ослепляет человека, не давая возможности различать оригинал и копию, важное и второстепенное. Оно также определяет «одномерный» характер человека, массифицирует его, лишает рефлексии и всякой критической способности. Поэтому все для него становится одинаковым и одноразовым. В контексте, например, музыкальной продукции, современный massmen, следуя за модой, стремится «идти в ногу со временем», но своевременность этой ходьбы мнимая. Его уже не прельщает та музыка, которую он слушал, например, три года назад; более интересной становится то, что на пике популярности сейчас, потому что это слушают ВСЕ. Музыкальные группы появляются и исчезают подобно грибам после обильного дождя, но по сути они все одинаковы и совершенно не отличаются друг от друга ни принципиальной новизной своих «творений», ни исполнительским профессионализмом (если говорить о распространенном феномене попсы), но потребитель пытается их различать по критерию «достойно уважения – недостойно уважения», хотя на самом деле критерий чисто исторический: «вчера-сегодня». То, что появилось сегодня – интересно, а то, что было вчера – устарело. Скорее даже, этот критерий следует назвать не историческим, а хронологическим или анти-историческим, поскольку история безудержно исчезает: с гегемонией китч-культуры приходит конец истории. Устаревает все, так как мир стал одноразовым. Теперь уже одноразовыми являются не только бумажные стаканчики, но и произведения искусства. Забыт тот факт, что гениальные творения не устаревают никогда. Теперь все гениально…, но лишь на один день. Конечно, во многом это связано с инновационными тенденциями «третьей волны», за которыми человек отчаянно старается успевать, однако если в области техники (компьютеры, телефоны и т.д.) действительно происходят инновации, то в области искусства имеют место в первую очередь псевдоинновации, олицетворением которых выступает мода.
«Who wants yesterdays papers, who wants yesterdays girls» («кому нужны вчерашние газеты, кому нужны вчерашние девушки»), - пели когда-то Роллинг Стоунз. Эти строки известной песни послужили своеобразным лозунгом для зародившегося на западе, а в последние десятилетия появившегося в России так называемого движения «pick up». Pick up – это система соблазнения, основой которого выступают техники нейролингвистического программирования. Главными принципами данной технологии (или даже образа жизни) выступают: 1) соблазнить как можно больше девушек, 2) максимально сократить временной интервал между знакомством и сексом. То есть, длительные и глубокие отношения не предполагаются и на их место ставится просто животная похоть, реализация которой находит свое применении в мастерском овладении разнообразными техниками соблазнения[290]. Даже проводятся всякие дорогостоящие тренинговые курсы и учебные программы, направленные на овладение этими навыками. Не имея ничего против НЛП как оригинальной и достаточно эффективной системы коммуникации и психотерапии, pick up как определенный контекст, в котором нашли применение методы НЛП, заслуживает критического рассмотрения, так как он является одним из примеров современного общества потребления, где вместо любви культивируется секс, где вместо глубины (качество) отношений культивируется их количество (чем больше соблазню, тем лучше) – промискуитет поверхностного насыщения. Секс тоже стал предметом потребления. В этом смысле весьма показателен клип группы Iron Maiden на песню «Wasted love», где герой, тело которого испещрено татуировками-именами некогда соблазненных девиц, мучается от духовной пустоты. Безудержность потребительства – это эрзац подлинной субъектности, это вариант психологической защиты, компенсирующей внутреннюю пустоту внешними предметами потребления. Культура потребления – это погоня за практически ненужными вещами, которая становится смыслом жизни, за бесполезным гламуром – дешевыми блестками и улыбками металлокерамики. Человек уже перестает задумываться о смысле жизни, о цели своего существования, то есть – по замечанию Л. Далакишвили - культура, «назначенная» для придания смысла человеческому бытию, приостановлена в своем действии или даже выключена[291]. На ее место пришла другая культура, основанная на вещизме и информационном хаосе. Кроме того, всеобщее для современной культуры – это не производство, а потребление[292], что также говорит о состоянии социальности: место таких ценностей, как полезность и любовь к труду, заняла расточительность.
Вещи покупаются и выбрасываются для того, чтобы их место заменили другие вещи – их более усовершенствованные эквиваленты. И этот процесс происходит циклически. Если сегодня мы покупаем компьютер, то через пару лет в связи с совершенствованием технологий он неизбежно устаревает, и потребитель выбрасывает еще не исчерпавшую полезности вещь. Поэтому смысл тенденций консъюмеризма (в первую очередь рекламы) – сделать нас недовольными тем, что мы уже имеем, чтобы подтолкнуть к большему потребительству, пробудить в нас некое архаическое, регрессивное недовольство, близкое скорее к детскому капризу, чем к логическому зрелому решению. Поэтому общество потребления – это общество постоянной нехватки. Консъюмер – раб своих желаний, пределов желаниям не существует, желания доставляют мучения, удовлетворение желаний приносит удовольствие, желания культивируются искушением, за удовлетворение желания человек готов платить, человек заражается желаниями от других[293].
Но об этой расточительности мало кто задумывается из представителей потребительской прослойки, так как считают свойственную им тенденцию жизненно важной и необходимой. Создается впечатление, что современный человек – владелец не глубокой души, а только дорогих и технически совершенных игрушек (душевная глубина обратно пропорциональна дороговизне и совершенству игрушек). Ведь продвижение фиктивных и полуфиктивных товаров все больше и больше внушает потребителю, что у него есть потребность в их приобретении. Технический прогресс дошел до того уровня, что он значительно опередил антропологический прогресс; теперь товар посредством своей метафункциональности стал намного более сложным и совершенным, чем сам человек. Так технический прогресс (дите цивилизации) наносит удар по культуре. Человек потерял свое привилегированное положение, бессознательно отдав его своим игрушкам. Хотя нет – он не мог отдать его игрушкам, так как он их постоянно меняет, не фетишизируя никакую из них. Скорее всего, привилегии лежат на самом процессе смены одного товара другим, улучшенным. Не на человеке, не на товаре, а на процессе манипуляций с товаром. Из этого процесса рождается реальность, а без него она исчезает.
Важная особенность потребительского общества – механизм, согласно которому желания сначала удовлетворяются, а только потом появляются; например, при помощи дегустации навых продуктов в супермаркетах или раздачи сигарет на улице[294]. То есть, механизм допотребительского общества здесь работает с точностью до наоборот, причина и следствие меняются местами. Нельзя сказать, что в эпоху консъюмеризма только такое положение дел (удовлетворение потребности предшествует ее возникновению) имеет место. Скорее, эти два механизма сосуществуют вместе. Если механизм «появления и удовлетворения желания» свойственен в большей степени традиционному обществу, это совершенно не значит, что он утратил свою силу с наступлением общества потребления; он остался, но поделил сферу желания с механизмом «удовлетворения и появления потребности», который, в свою очередь, выступает сильным фактором в формировании потребностей – как реальных, так фиктивных и полуфиктивных. Он не просто удовлетворяет с самого начала несуществующие в данный момент потребности – удовлетворяя их, он тем самым способствует их формированию. Так, человек узнает про появление нового сорта колбасы, заходя в супермаркет и дегустируя этот сорт. Но после дегустации он не столько удовлетворяет свою потребность, сколько ее формирует. Удовлетворяется потребность попробовать, но не наесться бесплатно, а формируется потребность купить.
Рабом в нашу эпоху являются не только консъюмеры (рабы игрушек), но и бизнесмены (рабы денег). Их принцип звучит так: жить ради того, чтобы зарабатывать. А более человекоцентрированный принцип такой: зарабатывать, чтобы жить. Зарабатывание любой ценой, в ущерб жизни и здоровью, вызвано таким же животным инстинктом, как и консъюмеризм. Они оба бессмысленны.
В классификацию полуфиктивных товаров включен не только критерий их метафункциональности, но и узкофункциональности (в отличие от полной дисфункциональности фиктивных товаров). Так, у машинки для открывания консервных банок больше нет никаких других функций, и благодаря такой узости применения мы вполне могли бы обойтись без нее, учитывая наличие у человека способности к самостоятельному открытию банок и извлечению на свет божий их содержимого; в этом заключена полуфиктивность данного технического устройства. К подобным предметам можно отнести многие «удивительные» устройства типа специальной щетки для чистки крыш шкафов (только крыш и только шкафов!), машинки для извлечения косточек из фруктов, электрического устройства для перемешивания сахара в кофе/чаю. Совсем неудивительно, если в недалеком будущем стремительное появление таких «изобретений», призванных выполнять самые примитивные действия, приведет человека к наивысшему состоянию лени, из-за которого его телесная функциональность атрофируется настолько, что он элементарно гвоздь не сможет вбить в стену без своих технических помощников. Все эти устройства целесообразно обозначить максимально абстрактным словом «штуковина», выступающим родовым понятиям по отношению к бытовым мелочам, далеко не каждая из которых имеет свое имя. Учитывая стремительное появление таких устройств, им просто не успевают (в силу скудости языка) придумать имена. «Штуковина» покрывает все то, что из-за крайне узкой специализации не поддается наименованию и конкретному обозначению[295]. Вполне закономерным образом вырисовывается актуальность и вместе с тем особая трудность ответа на вопрос «где же кончается полезное и начинается бесполезное, где проходят грани, разделяющие необходимое, нужное и совершенно ненужное?».
Итак, предметы общества потребления характеризуются в первую очередь не своим прямым назначением (они могут быть практически бесполезны), а знаковой, символической функцией, благодаря которой их владелец становится обладателем престижного статуса владельца, то есть человека, который просто может себе позволить приобретать различные гаджеты и «штуковины». Истина современного предмета – не служить для чего-то, а значить, быть не инструментом, а знаком[296].
Может быть, доводя эту логику до абсурдного предела, следует предположить, что сами товары в виде дорогих машин типа Lexus современному человеку не особо нужны. Достаточно просто с помощью фотошопа создать фотографический образ себя-любимого, с иголочки одетого, стоящего рядом с дорогим автомобилем в окружении двойки-тройки обнаженных красавиц. Или, не претворяя в реальность тягу к путешествиям, таким же магическим способом сделать фото на фоне, к примеру, Эйфелевой башни. И ведь действительно, среди потребительски ориентированных масс, не имеющих достаточное количество средств для воплощения в жизнь стратегем консъюмеризма, в последнее время таковая тенденция набирает обороты, и фотошоп становится ее основным средством. По нашему мнению (возможно, несколько консервативному), зрелая личность не испытывает подобных потребностей и у нее не возникает желания показаться в глазах других людей в более материально богатом облике, чем тот, который ей в действительности присущ. Вполне уместной выглядит следующая шутка: мы не осознаем свои потребности, но узнаем о них из рекламы и других сфер коммуникационного пространства.
Время для общества потребления утрачивает всякий смысл. Одноразовость вещей заменила их прежнюю рабочую долговременность. Одноразовым становится почти все – от стаканчиков и прочей посуды до одежды. Если раньше делали качественные джинсы и обувь, то нынешняя продукция, лежащая на прилавках магазинов, отличается тем, что временной интервал между покупкой и выбросом максимально сокращен. Штаны после первой-второй стирки выцветают, а в процессе весьма непродолжительной носки протираются, а у обуви, которой хватает на один – максимум, два – сезона, трескается или даже отлетает подошва. И это нормально, ибо нет ничего вечного под луной консъюмеризма, в соответствии с которым стимулируется желание потреблять больше и больше, не задумываясь о том, что потребляется ширпотреб. Качественная продукция, сделанная «на века», перестает пользоваться спросом, так как в ее отношении потребитель думает «зачем она мне, все равно на следующий год выйдет из моды». Поэтому носить одну и ту же обувь пять лет стало ненормальным явлением. Такую продукцию и производить-то стало невыгодно. И причина этому кроется не в том, что обувь может за это время изрядно износиться (она может и сохраниться), а в том, что мода ее уже не приемлет. Все течет, все изменяется, и качество товаров, их функциональная долговременность коррелирует с быстротой смены модных тенденций. Бабушкины сундуки обесцениваются… «…производство живет именно непрочностью и недолговечностью вещей, на этом основаны его логика и стратегия. Экономика стабильных и качественных вещей немыслима: экономика развивается только выделяя из себя опасность, загрязнение, износ, неудовлетворенность, обсессию»[297]. Если раньше, как отмечает Э. Фромм, существовал лозунг «Все старое прекрасно!», то сегодня бытует другой – «Все новое прекрасно!»[298]. Культивирование нового, стимуляция потребления по сути означают стремление возбудить в потребителе отвращение к самому себе. Отвращение к себе-настоящему, который пока не имеет необходимый продукт, и симпатию к себе-будущему, который приобрел товарное средство формирования «Я-концепции». Но хитрость заключена в том, что всевозможные штуковины создаются постоянно, и этот процесс уходит в бесконечность. А значит, культивация отвращения к себе также, как и прогресс технологий, будет продолжаться. Имеет место следующая цепочка: отвращение-покупка-счастье-отвращение-покупка-счастье…
Внимание потребителя перемещается с вещи на ее упаковку, или же сама вещь становится собственной оберткой, конфетным фантиком, ярлыком с пустой внутренней формой, паразитарным означаемым, которое возбуждает фиктивное желание и продуцирует тела желаний, подменяющих настоящее распределение вещей[299]. Обертка, фантик – это своеобразные означающие, которые далеко не всегда указывают на что-либо; иногда их означаемым оказывается ничто. Это имя – имя собственное, это приманка. Аналогичным образом Р. Барт рассматривает имя рассказа, его название, считая его «королем означающих», которое возбуждает у читателя аппетит, служит приманкой[300]. Название, обертка, фантик, упаковка, - все это суть бренды, имиджи, отсылающие нас к тому, что за ними скрывается. И вообще, следуя мысли Ж. Бодрийяра, вся система массовой коммуникации представляет собой не отсылку к реальному миру, а систему координат, где происходит отсылка «от одного знака к другому, от одного предмета к другому, от одного потребителя к другому»[301]. То есть, СМК не столько описывают реальность, не столько создают ее репрезентацию, сколько играют в реальность, сами превращаясь в нее, заставляют циркулировать не смысл, а самих себя вместо всякого смысла, конституируют саморепрезентацию.
Упаковки создают образ заключенного в них товара, и если упаковки различны, то и находящиеся внутри них вещи должны отличаться друг от друга. Одна вещь привлекает внимание тем, что она чем-то отличается от другой. Но если даже шоколад «Марс» производился бы в разных упаковках, содержание, скрытое под этими упаковками, все равно оставалось бы одним и тем же, то есть тождественным своему предшественнику, носящему это же название, но облаченному в иную обертку. В этом и заключена фиктивность. Бумажный стаканчик – это упаковка желания попить. Мы покупаем упаковки…
И здесь – в продвижении псевдопотребностей и формировании желаний – огромную роль играют мода и реклама. Но удовлетворение нормальной (естественной) потребности не нуждается в рекламе. В ней нуждается некая фикция, желание, без удовлетворения которого вполне можно обойтись без ущерба для себя.
Выходя на более широкое проблемное поле, стоит упомянуть политическую глобализацию, идеалом которой выступает «теория золотого миллиарда», согласно которой в будущем на планете должен остаться только миллиард избранных людей, а все остальные подлежат истреблению и резервации (миллиард – это сами представители власти плюс так называемый «обслуживающий их персонал» плюс чернорабочие). Для осуществления этой радикальной мальтузианской идеи используются разные средства, с помощью которых можно разделить некогда сильные сообщества на части, оказать негативное воздействие на генофонд, на психическое и физическое здоровье человека. Сюда часто относят массовый алкоголизм, наркоманию, сектантство и т.д.; будто эти деструктивные для человека – его физического и психического здоровья – явления инициируются сверху, а не существуют сами по себе. Руками [официальных] правительств, а также СМИ (пропаганда и дезинформация вместо новостей), глобалисты медленно, но верно вершат свою политику террора, сея раздор между странами или между определенными группами внутри отдельной страны, приводя экономику отдельных стран в упадок путем изъятия и перераспределения ресурсов и производимого богатства, внедряя безнравственную криминальную культуру (китч) и осуществляя переход собственности различных стран в свои руки. Потребительство и гедонизм же являются одним из многих способов сокращения рождаемости, выгодной для потенциальных властителей мира сего; консъюмеризм не приемлет семейных ценностей, а придерживается индивидуализма, согласно которому жить надо в кайф и жить для себя, а не для семьи или детей. Кроме того, гедонизм разрушителен для нации своим потенциалом слодострастного безволия; именно гедонизм послужил одной из причин падения Римской Империи.
Но даже если, обратившись к проблеме глобализации, мы отвлечемся от идей о мировых правительствах с их заговорами, то, говоря о причинах появления потребительства, все равно упремся в США как кластер транснациональных корпораций. Руками этих корпораций создается необходимый плацдарм для развития потребительства в виде насаждения искусственных потребностей и унификации культур. Для того, чтобы корпорации продать свой продукт, да еще продать людям той общности, чья культура не нуждается в таких приобретениях (к примеру, «Макдональдс»), необходимо создать потребность путем нивелирования культурного разнообразия, которое является сильнейшим барьером для процветания глобального бизнеса. Таким образом, постепенно в быт эксплуатируемого этноса вторгается потребительская культура, подающаяся как наиболее современная и отвечающая требованиям времени альтернатива традиционной культуре.
Другой аспект деятельности транснациональных корпораций – это стремление к монополии. Конечно, любой бизнесмен будет стремиться занять лидирующее место в той или иной сфере, но, что касается особо крупных корпораций, их продукция не всегда качественна, несмотря на что они все-таки остаются монополистами. Так, операционные системы Microsoft далеко не во всех случаях отличаются удобством и качеством, однако они лидируют. Примером можно привести много. Монополист имеет право устанавливать свои – довольно высокие – цены и производить продукт, который уступает по своим характеристикам аналогичному продукту других компаний, которым, вместе с тем, далеко до конкурирования с тем, кто стоит выше их. Когда конкурируют продукты, а не их производители, мы остаемся заваленными товаром, который далеко не самый лучший.
Возникает вопрос: как соотносятся между собой культура китча и культура потребления? По нашему мнению, потребительство выступает всего лишь частью китча. Потребительский образ жизни рассматривают в единой связке со словом «гламур»; гламур – «чучело красоты» (термин А. Секацкого), обитель интеллектуальной серости и вторичности (но внешней яркости), смыслозаменитель, замещающий подлинность глубин человеческого духа. Однако внутри китч-культуры мы находим и антигламурные явления, которые не входят в дискурс консъюмеризма, но все равно локализуются в области культурного хлама. Например, вряд ли следует наделять культуру гопников характеристиками гламура и пафосности потреблятства. Так что китч предлагается понимать как более широкое явление, нежели потребительство и гламур.
При оценке культурного облика потребительства необходимо также обратиться к вопросу: «что именно потребляется?». Все-таки непозволительно говорить о потреблении, не касаясь проблемы ее объекта. Потребляться ведь могут не только удовольствия, связанные с мелкими страстишками, типа стриптиза или азартных игр. Объектом потребления могут быть и произведения искусства. То есть, потребительская сущность проявляется на разных уровнях массовой культуры, а не только на уровне китча (хотя, признаемся, китч служит наиболее подходящим фундаментом для укоренения этой сущности). Но тем не менее принято связывать с культурой потребления не культуру как таковую, а бескультурье; само слово «потребление» ассоциируется с понятиями бездуховности, меркантильности, грубой материальности и паразитарного образа жизни, согласно которому человек стремится «меньше работать, но больше потреблять». Такое понимание не совсем оправдано, но и его нельзя назвать неверным, так как оно имеет под собой веское основание в виде идеалов и ценностей, которые насаждают «низы» масскульта. Конечно, культурно-образовательный уровень так называемых «новых русских» - прослойки бизнесменов и чиновников, - преимущественно характеризуется уровнем ниже среднего (и это с уверенностью можно сказать, не прибегая ни к каким конкретным статистическим данным), а по-настоящему культурные люди ходят не в казино и ночные клубы, а в библиотеки, театры и музеи. Но вместе с тем среди материально обеспеченной прослойки общества – адептов гламура и потребительства – находятся люди, обладающие утонченным вкусом, которые коллекционируют хорошие и редкие книги или картины, что уже говорит о некоем положительном (в культурном смысле) аспекте потребительства. Хотя здесь возникает дискуссионный вопрос: а потребительство ли это?
Но эта положительность находится только в том случае, если потребитель высокого искусства понимает смысл этого искусства. В других же случаях человек приобретает эксклюзив, который остается им непонятым; основным мотивом такого приобретения – опять же – выступает статусность. Так, вспоминаются некоторые буквально анекдотичные примеры из недавнего прошлого. Когда признаком наличия хорошего вкуса считалась богатая коллекция книг, некоторые желающие блеснуть «вкусом» приобретали целые библиотеки, заполненные довольно дорогими и эксклюзивными изданиями. Однако – что самое смешное – они их не читали и вообще к ним не прикасались в отсутствии культуры чтения и в страхе за сохранность коллекции. Некоторые даже, боясь прецедентов воровства книг с полок, вбивали металлический штырь так, что он проходил от одного конца полки к другому, пронизывая собой все стоящие книги. Соответственно, после осуществления такой хитрости книги не только нельзя было украсть, но ни одну из них нельзя было взять с полки вообще. Так и стояли они бесполезным грузом, незаслуженно пронзенные. Зато они несли символическую пользу, подчеркивая утонченную интеллектуально-эстетическую сущность их обладателя. Штырь здесь тоже обладает определенным символизмом; он ограничивает в настоящем использовании культурного продукта (в извлечении полезности «по назначению»), но дает возможность сохранения не столько самого продукта, сколько сохранения его псевдополезности, его знаковости.
Исходя из подобных примеров, целесообразно сделать вывод о том, что символизм и знаковость потребительства, воплощенные в потребности отличиться от других, указывает не на достойность отличий, а на безвкусие человека, которого прельщает такой образ жизни. Если существуют массовые способы подчеркивания отличий, то благодаря массовости они становятся подчеркиванием сходств. А следование такой моде говорит об отсутствии индивидуального вкуса и стремлении ценить не сами предметы потребления, не их эстетический смысл, а всего лишь их социальную знаковость. В таких тенденциях нет места индивидуальности. Культура потребления, возбуждая желания «оттянуться» и «получить кайф», способствует забвению того, что необходимо для духовного [и не только духовного] существования человека. Потребитель – не активный субъект, способный реализовывать свои подлинно субъектные интенции, а сырье, материал, потребляемый [в свою очередь] идеологией, модой, рекламой, наконец, низшим уровнем массовой культуры и его мифами.
В общем, сущность эпохи потребления закономерным образом связана с состоянием массовой культуры. Последняя же поддается описанию через призму массовой коммуникации и систему масс-медиа; потребительство и массмедийность взаимообуславливают друг друга и держатся за руки.
Возвращаясь к проблематике так называемого хорошего вкуса, за удовлетворение которого приходится высоко платить, обратимся к примеру. Так, некоторые материально обеспеченные меломаны предпочитают пользоваться дорогими аналоговыми звуковыми системами, которые позволяют не выхолащивать музыку, не лишать ее присущих ей достоинств (что происходит при использовании дискретных/цифровых аудиосистем). Музыка обладает некоторым трудно уловимым для человеческого уха «нечто», которое утрачивается при прослушивании аудиокассет, компакт-дисков и вообще при использовании недостаточно качественной аудиосистемы, и требует весьма дорогостоящих музыкальных «игрушек»[302]. Приобретение техники «высокой верности» требует избыточных финансов. С одной стороны, нет ничего пролого в этом перфекционизме, в стратегии поиска лучшего для себя. Но, с другой стороны, она представляется почти бессмысленной потому, что чисто физически слуховой аппарат человека не может в полной мере уловить принципиальное различие между звуком, который выдается высококачественной техникой, и звуком, который генерирует техника среднего качества. Людей с исключительным слухом не так уж много, а стремление обладать самым лучшим, достоинства которого всче равно не будут эстетически оценены, присуще намного большему количеству людей, называющих себя меломанами. Не уловимое, но присутствующее «нечто» выступает одним из оснований существования меломана как меломана; оно его манит, но при этом ускользает, не дает поймать себя за хвост. Можно слышать достоинства, а можно просто знать о том, что они есть. Так вот большая часть людей, гордо именующих себя меломанами, только знают об этом, но это знание не дает возможности услышать «нечто», тот высококачественный звук, к которому они так стремятся. Следовательно, их стремление едва ли рационально. Это «нечто» также следует именовать избытком, который, будучи воплощенным в вещи, характерен для общества потребления, и которой консъюмер старается потребить – достигнуть того наслаждения, коего он никогда не достигает на 100%. Здесь уместна не формула «хорошая аппаратура нужна для хорошей музыки», а скорее формула «хорошая аппаратура нужна для довольства собой».
По нашему мнению, культура потребления в ментальном смысле не свойственна русскому народу. Наш народ всегда воспитывался в условиях несвободы, рабства и нищеты. Эта культура несвободы и бедности на протяжении сотен лет все глубже и глубже укоренялась в сознании нашего народа посредством режимов татаро-монгольского ига, Ивана Грозного, Петра I, Сталина. Отсюда с неизбежностью возникли терпеливость и низкие притязания (захудалый кров, кусок хлеба и какая-никакая одежка – этим быт и полнился). В последнее время океан потребительства огромной волной захлестную русскую культуру, а само это потребительство – скорее изобретение Америки [страны без корней и культурного богатства], но уж явно не России, которая, несмотря на это, руководствуясь интересом к заморским диковинкам, не преминула примерить к себе соблазнительные и красочные одежды потребления.
Позднекапиталистическая эпоха, разгар которой именуется потреблением, характеризуется виртуализацией реальности и реальнизацией виртуальности. Собственно, реальность и виртуальность переплетаются в странное хитросплетение, в котором трудно отделить реальность от потоков симулякров. Так, по мнению С. Жижека, реальная жизнь потребительства приобретает черты инсценированной подделки, призрачного шоу, где люди ведут себя как актеры, где мир наполняет реклама, где фантазм расширился до общественных размеров[303]. Культовый фильм братьев Вачовски «Матрица» отлично показывает виртуализацию и ирреализацию реальности; думается, не случайно он появился именно в наше время.
Виртуализация, а точнее, симулякризация, затрагивает более частные аспекты потребительства, заменяя некоторые товары на подделки. Так, безалкогольное пиво, сахар без сахара, кофе без кофеина – подделки, которые, лишенные своих прежних вредных для человеческого организма качеств (алкоголь, сахар, кофеин), могут потребляться неограниченно. Именно в этом некоторые современные философы видят чуть ли не корень потребления – в том, что с приходом на рынок таких товаров-подделок прежняя (модернистская) умеренность в потреблении, этика самоконтроля и подавления влечений, стимулирующая воздержание от вредных веществ, сменилась неумеренностью. Мол, то, что стало безвредным, позволительно потреблять сколько угодно – продукты превратились в свои собственные отрицания. Об этом говорит С. Жижек в фильме «Реальность виртуального», где добавляет, что раньше целью психоанализа было снять с клиента чувство вины за его преступление против общественных запретов (и своего здоровья) ради наслаждения, а сейчас, наоборот, клиент чувствует вину за отсутствие наслаждения, и психоанализ призывает его стать собственным цензором, частично отказаться от наслаждения. Подобные рассуждения точны и остры, но вряд ли такому узкому феномену потребительской культуры, как товар, утративший свою опасную суть, следует придавать большое значение. Ведь количество товаров, лишенных их первоначальной [опасной] сущности, не так уж велико, а если заводить речь в целом о потребительском рынке, то, наоборот, стоит глубоко задуматься о вреде очень многих товаров, напичканных химией – от картофельных чипсов до шампуней.
Еще одно важное свойство потребительства – это способность интегрировать внутрь себя антипотребительский дискурс, к которому относятся коммунистические, анархические, антикапиталистические, антиглобалистские тенденции. Дух консъюмеризма умеет играть этими тенденциями так, что элементы антипотребительского дискурса из оппонентов консъюмеризму превращаются в его сторонников. Образ Че Гевары – человека, который, можно сказать, пожертвовал собой ради блага других, - стал эксплуатироваться не только идейными поклонниками кубинского революционера, но и индустрией – в частности, в рекламе мороженого. В видеолекции «Сначала как трагедия, затем – как фарс» С. Жижек приводит следующий пример. Фирма, которая называется «Cherry Guevara», использует следующий рекламный лозунг: «Революционная борьба вишенок была подавлена, когда они были окружены двумя слоями шоколада. Пусть память о них сохранится у вас во рту!». Таким образом, Че Гевара, а точнее, его образ, служит рекламной кампании, которая, вместе с тем, использует не только образ, принадлежащий антикапиталистической идеологии, но и ее речь; в приведенном лозунге – ни много ни мало – прослеживается идея революции, а по-настоящему здесь уже нет идеи, но есть спекуляция на ней.
Культура потребления способствует эгоизации человека. Если традиционные культуры, как правило, осуществляли сплочение людей, то потребительство актуализирует удовлетворение только своих, индивидуальных потребностей, что разрушает былое единство на разных уровнях – от семейных до конфессиональных, от малых групп до больших. Также с ее идеалами типа «много потреблять, но мало производить» неуклонно рождается в социуме лень и сверхвысокие запросы. «Идейный» потребитель не захочет работать вахтером, техничкой, врачом и т.д. Однако за низкооплачиваемую «черную» работу почти с радостью хватаются выходцы из бедных стран и прочие эмигранты – трудолюбивые, мало потребляющие, с низкими запросами. В итоге территориальный этнос перекладывает «черную», но все же необходимую для общества работу на эмигрантов, без которых уже обленившийся социум жить не может. Однако эти эмигранты, проживая на территории чужой страны, едва ли считаются с культурными устоями доминирующей национальной прослойки. Так, исламисты остаются исламистами, не приемлющими культурных ценностей русских и – мало того – считающими последних неверными. Следовательно, в обществе, готовом принять в свое лоно всякого, кто согласен «работать за еду», зреют гроздья гнева, которым для выплеска злости на эксплуататоров необходим только численный рост – кстати, с лихвой осуществляемый в том числе на уровне государственной политики. А если учесть вполне вероятную возможность природных катастроф, которыми обглоданная планета отреагирует на «человеческий фактор», в слабую Россию может хлынуть целая волна обездоленных народов, которых природные катаклизмы сильно тряхнут[304]. И ясно, чего от этого стоит ожидать в будущем…
2. Проблема адаптации субъекта к массовой культуре
Л.В. Володина выделяет две основные парадигмы в теории массовой коммуникации: 1) люди сами подчиняют средства массовой коммуникации себе и приспосабливают их к своим потребностям (человеко-ориентированный подход); 2) средства массовой коммуникации подчиняют себе человека (медиа-ориентированный подход)[305]. Нетрудно заметить качественно противоположное действие этих подходов по отношению одного к другому, совершенно различные причинно-следственные механизмы, заложенные внутри каждого из них. Однако внутри собственно массовой культуры мы можем увидеть такие же противоположные по своей сути детерминирующие механизмы. С одной стороны, массовая культура, определяя сознание человека, уничтожает его субъектные качества, с другой же – она формирует подлинную субъектность. Мнение Р.А. Ивановой в этом смысле достаточно близко к нашему: она также постулирует двусторонний характер воздействия масскульта на человека – выполнение функции адаптации человека к современному обществу, а также манипуляции массами[306]. Что касается адаптационного воздействия массовой культуры на человека, уместно вспомнить интериоризацию внешних влияний, происходящую в детском возрасте, когда ребенок в процессе своего развития должен присваивать нормы общественного поведения, чтобы впоследствии сформировать свои собственные. Что же касается манипуляций, то здесь можно провести параллель со все той же интериоризацией, но характерной в некоторых случаях для зрелого возраста, когда индивид вследствие несформированной субъектности подобно губке продолжает безоценочно «впитывать» в себя навязываемые извне идеологические и поведенческие паттерны, которые впоследствии можно обозначить как его «свое иное». О подобном же феномене пишет А.А. Луговой, выделяя социально-регулятивную функцию массовой культуры, благодаря которой происходит стандартизация социокультурных установок, интересов и потребностей человека; автор связывает масскульт с редуцированием (упрощением), культурных смыслов, что, по его мнению, формирует у человека упрощенное до дуальных оппозиций (хорошее-плохое, свое-чужое) мировосприятие и лишает его собственного выбора. И далее Луговой совершенно справедливо отмечает, что такое положение необходимо на первичных этапах социализации, а в дальнейшем оно только мешает развитию человеческой индивидуальности[307]. Таким образом, воздействия, формирующие максимально упрощенные представления о мире и о самом себе, обнаруживают свою полезность лишь в детском возрасте, и на их основе в дальнейшем складываются более сложные представления и формы мировоззрения. Если же таковые воздействия направлены на людей зрелого возраста, то они, наоборот, элиминируют высшие субъектные качества и стандартизируют человека. Однако Луговой не усматривает в массовой культуре никакого созидательного эффекта, если не считать возрастного критерия, что указывает на определенное слабое звено в его концепции.
Но феномен интериоризации отличается большой долей абстрактности. Как можно точно определить, отделить друг от друга «свои» ценности и нормы и результаты внешнего влияния? Г. Маркузе отмечает условность различия между ними, в чем видит успех трансплантации общественных потребностей в индивидуальные[308]. Естественно, если индивид не различает «свое» и «чужое», можно констатировать успешность внешнего влияния на него. А субъект, как мы заметили ранее, обязательно должен уметь усматривать это различие. Так, мысль Д.А. Бабушкиной основывается именно на этом: субъект должен осознавать себя как подлежащее собственных действий, обладать собой как объектом собственных желаний и мыслей, осознавать себя, поступать по причине себя, а не быть руководимым чужим мнением и желанием[309]. То есть, термины «сам» и «собственный» - основные характеристики субъекта, говорящие о его само-стоятельности, само-рефлексии и само-детерминированности. М.Г. Курбанов в этом смысле разделяет человека на две категории: ноумен и феномен. Ноумен зависит от внешних условий, которые детерминируют его существование. Для феномена эта зависимость не имеет значения, так как он сам создает и выстраивает из этих зависимостей значимые для него объективные отношения и придает им смысл[310]. Здесь мы видим принципиальное различие между представителями обеих категорий. Если ноумен – это человек, лишенный субъектного качества самодетерминации, то феномену, наоборот, оно присуще.
Л.Е. Климова убеждена в амбивалентном воздействии массовой культуры на личность. Так, благодаря масскульту в обществе происходит распространение социокультурных инноваций и обеспечивается дополнительный комфорт в повседневной жизни. Но одновременно с этим массовая культура, ориентированная в основном на технические способы производства, способствует эмансипации общества от природной среды, игнорирует и разрушает культурные традиции. А использование средств массовой коммуникации влечет за собой снижение планки любой идеи до уровня массового потребителя, «тем самым лишая и человека, и действительность их истинного уровня и значения»[311]. Главной особенностью массового человека исследовательница называет представленность им действительности через отражение ее в СМИ. Массовая культура, по мнению Климовой, фрагментирует личность, лишает ее целостности и ограничивает набором стереотипных проявлений; характерные черты массифицированной личности – социальная дезориентированность в отношении ценностных ориентаций, пониженная способность к рассуждению, поверхностное восприятие культурных ценностей, модификация сознания (управляющий личностью каркас внедренных путем СМК утверждений и норм). Мы можем провести здесь параллель с выделенными нами субъектными качествами и констатировать влияние массовой культуры как на целостность субъекта, так на его автономность (по отношению к ценностным ориентациям), так и на осознанность. По Климовой, внутри культуры личность выступает как объектом культуры в процессе усвоения культурных ценностей, так носителем и выразителем культуры; но личность также и создает культуру, превращая последнюю в объект. По мнению автора, человек, привыкая потреблять продукты масскульта, перестает замечать их тривиальность (это потребительство отчуждает его от творчества), массовая культура не стимулирует человека к внутреннему развитию. Массовый человек, по замечанию исследовательницы, не является автором массовой культуры, а становится объектом управления. Подобное высказывание приводит Ж.К. Кениспаев, считающий, что массовость, несовместимая с характером творческого потенциала человека, является одной из основных характеристик современности[312]. В общем, оба исследователя разделяют творчество и масскульт, усматривая в них почти несоединимые вещи.
Анализируя проблему адаптации личности в условиях распространения массовой культуры, Л.Е. Климова выделяет адаптационные механизмы, основанные, по нашему мнению, не на приобщении к массовой культуре, а на ее избегании. Это возврат к национальной культуре, обращение к религии, замыкание личности на себе, стремление оказаться в другом культурном пространстве, возврат к корням путем обращения к земле и природе. Нам кажется выделение таких механизмов парадоксальным предприятием, поскольку непонятно, как личность может адаптироваться к массовой культуре, проявляя эскапизм по отношению к ней (если, конечно, вопрос поставлен об адаптации именно к масскульту). При ведении разговора о самореализации личности в условиях массовой культуры данные механизмы также не имеют значения (конечно, если не постулируется идея о тотальной невозможности самореализации внутри масскульта и единственном выходе – побеге из данного культурного пространства). Эти механизмы напоминают нам защитные реакции избегания или вытеснения, не отличающиеся особой эффективностью. В общем, взгляд Климовой на возможность полноценного существования личности внутри массовой культуры кажется нам слишком пессимистичным, о чем свидетельствует недостаточность позитивного разрешение автором данной проблемы.
В работе «Неудовлетворенность культурой» З. Фрейд предположил, что именно культура несет основную вину за человеческие несчастья; человек становится невротиком потому, что не может вынести ограничений, налагаемых на него культурой[313]. Выходит, культура виновна в неврозах, и если бы ее не было вообще, то и человек был бы защищен от невротических заболеваний. Фрейд называет человека врагом культуры, которая строится на принуждении к труду и запрете влечений [314]. Однако, оппонируя Фрейду, следует заметить, что культура вместе с тем является основным виновником человечности субъекта: без культуры человек превратился бы в животное. Вообще, в психоанализе культура предстает в виде фобийных проекций человека, распадающаяся на свод запретов и набор навязчивых ритуалов; своей репрессивностью она защищает общество от свободного индивида и выступает врагом любых проявлений индивидуальности человека, результат действий которой – всеобщая невротичность[315]. Таким образом, происходит конфликт между наличным и должным, между желаниями отдельного человека и социально-культурными требованиями. Похожее мнение – мнение о конфликте между обществом и индивидом – высказывают Ж. Делез и Ф. Гваттари. «Причина расстройства – невроза или психоза – всегда в желающем производстве, в его отношении с общественным производством, в его отличии по режиму или конфликте с этим производством, в тех модусах инвестирования общественного производства, которые реализуются желающим производством»[316].
Если распространить мнение отца психоанализа на современную действительность, для которой характерна гегемония массовой культуры утилитарного и потребительского характера, то можно прийти к весьма интересным заключениям. Как известно, культура потребления создает устойчивый идеал гедонистической направленности, согласно которому человек должен стремиться к роскоши, - иметь высокооплачиваемую работу, обладать дорогим автомобилем модной марки, и при этом не напрягать себя интеллектуальным (и вообще каким-либо) трудом. Современный «массовый человек» отличается духовной зависимостью и стремлением ко все новым и новым развлечениям и удовольствиям[317], и эту зависимость от индустрии развлечений стоит рассматривать как продукт репрессивной деятельности последней на субъекта, а подавление подобной зависимости – шаг на пути к свободе[318]. «Развлекательные» умонастроения, гедонистические приоритеты порабощают субъекта, делают его одномерным. Реальные причины глобальных общественных явлений в политике, культуре и вообще во всей социальной жизни, как и сами эти явления, перестают людей интересовать; вместо них огромную долю внимания занимают симулякры, минимизирующие когнитивные усилия. Массы убеждены в том, что жизнь коротка, а потому ее не стоит тратить «попусту» - на политические баталии, на осуществление иллюзорных мечтаний и отстаивание гуманистических ценностей. Жизнь необходимо наполнять развлечениями, острыми ощущениями, азартом, экстримом, адреналином.
В чем-то данный идеал похож на знаменитую американскую мечту; возможно, воздействие Голливуда создало и у нас определенную ценность. По крайней мере, уважаемыми героями выступают персонажи массового искусства – тиражируемых фильмов, книг и т.д. Слияние культуры с развлечением, по мнению М. Хоркхаймера и Т. Адорно, приводит как к деградации культуры, так и одухотворению развлечения[319]. То есть, согласно такой подмене тезисов на место духовного становится развлекательное, высшее и низшее меняются местами. В итоге соприкосновение малообразованного и эстетически неразвитого человека с высокими культурными образцами, не являющимися на сегодняшний день культовыми, может вызвать реакцию отвержения, отвращения и непонимания. Ролан Барт утонченным образом высмеивает критическую позицию невежд, где объектом критики является то, что они понять не могут. Такой критик, признаваясь в непонятливости, сомневается в ясности произведения, на которое обращен его взгляд. Он следует принципу «Я не понимаю – значит, вы идиоты». «Вам не объяснить философов, а вот они вас объясняют»[320], - не без доли иронии пишет автор «Мифологий». От себя добавим, что презрительное отношение масс к той культуре, высот которой их мышление не достигает, совершенно необоснованно. Оно – это отношение – поддается сугубо психологическому описанию (чувство общности со своей группой как «своими» с одновременной ненавистью к «другим», результат некоего вытеснения осознания своей интеллектуально-эстетической неполноценности), но при этом лишено четких оснований, которые могли бы обеспечить ему право на существование.
Л.И. Чинакова выделяет три моральные установки человека, связанные с удовлетворением его потребностей: 1) аскетизм, 2) гедонизм, 3) гармоничное развитие личности[321]. Заметим, соглашаясь с Л.И. Чинаковой, что аскетизм и гедонизм как два противоположных полюса, как две крайности, идут вразрез с гармоничным развитием личности, и последнее с ними несовместимо.
Вообще, спор и том, что же гармонично для личностного развития и необходимо для человека – аскеза или гедонизм – начался еще в Древней Греции. Так, эпикурейцы проповедовали наслаждение, а киники, наоборот, считали стремление к роскоши и богатству пороком. Лично более импонируя кинической философии, мы все-таки в данном вопросе придерживаемся срединной позиции, согласно которой все должно быть в меру. Как беспредельный гедонизм, так и ожесточенный аскетизм наносят удары внутренней гармонии человека.
Но в чем же заключается масскультурная (китчевая) аскеза? Казалось бы, китч, равно как и культура потребления, проявляют полное неприятие аскезы. Соглашаясь с фактом этого неприятия, приведем некоторые доводы, который не позволяют назвать его полным и абсолютным. Конечно, примеров китчевой аскезы мы найдем мало, но тем не менее они есть.
Призывы к самоотречению исходят сверху, от государственных структур. Власть имущие, которых никак не обвинишь в аскетизме, довольно часто со своих трибун призывают народ расстаться с последними ценностями ради возрождения России, торжества свободы, роста производства и т.д. Апеллируя к патриотизму, не пытаются ли они в очередной раз обокрасть и без того нищий народ? Не являются ли пропагандой аскетического образа жизни постоянные призывы властвующей верхушки к терпению и жертвенности, когда народ месяцами не получает заработную плату? В общем, со стороны административной элиты наблюдается определенная амбивалентность; живя в роскоши, номенклатура требует от обычных граждан не то чтобы отказа от роскоши (какой у них никогда и не было), а полного отсутствия стремления к богатству. Эти призывы и требования можно смело назвать аморальными, циничными и лицемерными, так как они исходят от людей, не принимающих подобный образ жизни и не желающих его самим себе. Причем такая ситуация наблюдается не только сейчас – в эпоху современной массовой культуры и нынешнего постиндустриального общества. Обращая взор на наше недавнее прошлое – время существования Советского Союза, - мы вспоминаем доминирующий тогда идеал «светлого будущего», которым постоянно кормили святой народ и в угоду которого призывали к самоотречению во имя коммунизма. Именно на это указывает знаменитый лозунг «личное – ничто, общественное (соответственно, государственное) – все». По сути же этот идеал являл собой продукт мифотворчества, реализуемого специально для того, чтобы массы, находясь в постоянном ожидании светлых перемен, продолжали трудиться на благо государственности. Вместе с тем данный миф успешно нейтрализовал всяческие революционные порывы, потенциально возможные снизу.
Учитывая подобную форму государственной политики, призывающую народ к аскетизму, – с одной стороны, - и специфику современной массовой культуры, проповедующую гедонизм, – с другой, можно прийти к выводу о разновекторности содержания их воздействий. Так, государство требует аскетизма, а масскульт – гедонизма, и эти две тенденции непримиримы. Однако, как мы узнаем далее, культурная массовизация и многие аспекты внутренней государственной политики не поддаются прямому противопоставлению, а скорее наоборот, дополняют друг друга в успехе массовых манипуляций.
Здесь мы, немножко отдалившись от интересующего нас культурного контекста, логическим путем перешли в несколько другую область – сферу политики. Хотя, если рассматривать интересующее нас явление – масскульт – в максимально широком ракурсе, политическая ситуация в стране и присущий населению этой страны уровень массовой культуры во многом взаимосвязаны.
Но действительно ли аскетизм и гедонизм являются противоположностями? Естественно, в теоретических умопостроениях значения этих понятий абсолютно друг другу противоположны. Но на практике – в реалиях сегодняшней действительности – данные крайности сходятся.
Аскет – кто же это такой? По замечанию Ф. Ницше, «он нуждается в цели – и он предпочтет скорее хотеть Ничто, чем ничего не хотеть»[322]. Другими словами, аскет не то чтобы лишает себе в своих потребностях и желаниях, а скорее он отказывает себе в интересах – именно в культурных интересах. Если бы мы сказали, что аскет не хочет ничего, то мы изрядно перегнули бы палку. Такое преувеличение не может иметь место ровно настолько, насколько не может существовать человека без потребностей и желаний. Аскет – это не тот, кто ничего не ест, а тот, кто ест черствый хлеб из отрубей, бульон вместо супа, кашу на воде. Однако человек без культурных интересов существовать может (или по крайней мере они могут быть у него развиты так, что позволительно было бы говорить об их отсутствии). И разве нельзя в некотором роде современного массового человека, которого выше мы называли гедонистом, исходя не из материального контекста, к которому сводится китч-культура, а именно из собственно культурного, духовного, назвать аскетом? Разве не отказывает себе этот человек в удовольствии наслаждаться настоящими произведениями культуры и искусства, предпочитая пичкать себя дешевым ширпотребом? Разве не становится он порабощенным своим богатством, несмотря на то, что бессознательно считает себя господином своего имущества? Именно в этом и проявляет себя его аскетическая направленность. Таким образом, немного «поиграв» словами, значения которых традиционно рассматриваются как противоположные, после такой понятийной эквилибристики имеет смысл едва ли не выдвинуть вывод о их близости. Но мы не станем заходить так далеко, чтобы констатировать подобный вывод в его монументальности и неоспоримой истинности, потому что он будет одновременно как верным, так и ложным. Рассматривая какое-то явление, которое можно охарактеризовать через призму бинарности «гедонизм-аскетизм», необходимо исходить из конкретной контекстуальной области, а не смешивать разные контексты. Так, если мы обращаемся к сфере материального, то, несомненно, массовый человек фигурирует как гедонист, жаждущий великих наслаждений и готовый платить за них огромные деньги, поскольку наслаждения ему нужны особенные, исключительные и дорогостоящие. Но если мы берем во внимание область духовного, то этот самый massmen является нам в виде самого что ни на есть аскетичного аскета, питающегося отходами с барского стола, отбросами культуры и искусства, физиологизирующего свое наслаждение (идеалы и ценностные установки), а не одухотворяющего его. Мало того, он испытывает почти мазохистское удовольствие от пожирания этих объедков. Таким образом, с одной стороны он принадлежит материальной элите, а с другой же – бездуховной черни.
Общество потребления, которое также можно назвать обществом потреблятства, отличает материальный гедонизм и непосредственным образом с ним связанное следование неподлинному принципу «иметь», противопоставленному подлинности бытия, явление несвободы человека от вещей[323]. Иметь дорогую квартиру с большим метражом, машину новомодной марки, загородную дачу для шикарного отдыха и т.д. – вот ценности, свойственные потребительскому образу жизни, предметы потребления, с которыми их обладатель буквально идентифицируется: я – это то, чем я обладаю. Обладание автомобилем – это «свидетельство о гражданстве; водительские права служат дворянской грамотой для новейшей моторизованной знати»[324]. Но как субъект обладает определенным объектом, так и объект становится обладателем субъекта. Идентифицируя свое «я» со своей собственностью, в случае утраты последней человек теряет себя, так как его чувство идентичности основано на факте обладания объектом, в чем и заключается диалектичность взаимодействия раба и господина, которые способны меняться местами. Субъект, таким образом, сам становится вещью. Невольно вспоминаются слова киника Диогена Синопского об одном богатом скряге: «не он господин своего богатства, а богатство – его господин»[325].
Естественно, у человека есть потребности, и ничего плохого и предосудительного в этом нет. Но когда эти потребности переходят за рамки всякой разумной меры, человек утрачивает подлинное существование, разменивая его на предметы обладания и потребления. Это те предметы (деньги, квартира, машина, слава, власть), с которыми он идентифицируется полностью, с которыми отождествляет свое Я, а потому даже не представляет свое существование без них.
Гедонизм современной массовой культуры оказывает негативное влияние на субъектные качества индивида, что связано с редукцией духовных идеалов. Снижение интеллектуального уровня, по мнению А.В. Аврамова, вызывает редукцию высоких духовных идеалов в материальные ценности[326], что и наблюдается в современном обществе. Но также имеет значение снижение не только интеллектуального уровня, но и нравственного[327]. Так, по замечанию О.А. Богдановой, всегда можно пожертвовать высокими ценностями – такими, как дружба и любовь, - если они угрожают высшей ценности - материальному процветанию[328]. «В обществе, где главной целью человеческого бытия выступают деньги, честь обменивается на бесчестие, правда — на ложь, люди становятся средством для достижения политического и экономического благополучия «элит», жизнь же для честных людей становится нестерпимой»[329]. Конечно, мысль о том, что меркантилизм и культивирование богатства имеют под собой безнравственные основания, весьма банальна. Но, в ее продолжении скажем, что общество потребления не только безнравственно, но и беспринципно. Если принципы угрожают материальному достатку, то они перестают быть личными принципами и становятся чем-то ненужным, рудиментарным. Недаром говорят: дружба за деньги – это бизнес, любовь за деньги – это проституция. А что же такое беспринципность, если не отсутствие субъектной позиции, целостности мировоззрения? Неслучайно Н.Ю. Беляев в виде главной проблемы современного человека усматривает его бескачественность, бессубъектность и вещность, в то время как субъектностью вместо него наделяются деньги, которыми человек обладает[330]. Навязанные человеку средствами массовой информации и консъюмеристской культурой потребности, которые он считает своими, деньги, выступающие незаменимым средством реализации навязанных потребностей, сами институты манипулирования сознанием, производящие «желающего субъекта», - все эти элементы современного антропно-социально-культурного бытия являются субъектами, но им не является сам человек, потребитель, консъюмер.
Тем не менее нельзя забывать, что человек становится именно тем, кем хочет стать. Ему дано право выбора, которым он все равно сознательно или бессознательно пользуется. Но можно отказаться от выбора (тем самым – отказом – его совершив) и обречь себя на безответственное существование, отдавшись внешним тенденциям – моде, квазиидеалам и т.д. Ведь «плыть по течению» - это тоже выбор, это принятие решения не принимать больше никаких решений. Именно это стремление следовать моделям и идеалам, которые создают иллюзию различий и персонализации субъекта, свойственно современному обществу потребления. Утерянный человек стремится персонализироваться с помощью знаков, наборов отличий, модных вещей, визажистов, салонов красоты, эстетики ночных клубов и тусовок, мерседесов и т.д., которые не воссоздают индивидуальность, а разрушают ее «в тотальной анонимности, так как различие является по определению тем, что не имеет имени»[331]. По Ж. Бодрийяру, человек, сближаясь с моделью, входя в зависимость от нее, отказывается от всякого реального различия, от единичности, а сам процесс потребления – производство искусственно умноженных моделей. Эти модели индустриально производятся СМИ, и персональность каждого находит себя в следовании одним и тем же моделям (например, все девушки хотели быть похожими на Бриджит Бардо или Мерилин Монро). Таким образом, скажем в продолжение мысли Бодрийяра, многие я-идеалы, персональности как проекты сходятся в единую точку, что уже не позволяет говорить об исключительности и отличии каждого от каждого.
Но человек может поступить и по-иному, чтобы сохранить себя, свою субъектность. «Человек сам должен решить, подняться ему к вершинам духовной жизни или уподобиться животному, жить в мире лишь удобных, приятных, полезных вещей»[332]. Субъект, чтобы сохранить свою субъектность, свою инаковость и единичность, должен отказаться от безответственного и бессмысленного потребительства, следующего принципу «иметь», а не «быть». Путь к сохранению субъектных качеств – способность оставаться самим собой, независимым от стандартов моды, консъюмеристской идеологии и соответствующих моделей-образцов.
В обществе, где происходит девальвация ценностных ориентаций, культура терпит крах. Не зря отмечается, что именно система духовных ценностей – ядро социокультурного строя – определяет облик как цивилизации, так и культуры, и выступает основой диалога между ними[333]. Следует согласиться с данной позицией, отметив, что ценностные ориентиры выступают краеугольным камнем культуры и цивилизации. Культура не может существовать без аксиологического содержания; любая культура, любая идеология и любая традиция имеет какой-либо ценностный субстрат.
Ж. Гранье называет ницшеанского «последнего человека» представителем современного общества потребления – явления пассивного нигилизма, в котором человеческое существование уменьшено до радостного дрема и развлекательной безответственности[334]. «Массовая культура потребительского общества подпитывает и культивирует в потребителях ее продукции принцип удовольствия. При этом удовольствие потребления подменяет радость творчества и труда»[335]. А.Ф. Филатова приводит пример компьютерных игр, которые интересны для детей, но «не обучают глубине мысли». Сюда же можно отнести увлечение бульварным чтивом, кинематографией низкого уровня, псевдомузыкальной (именуемой попсой) продукцией. Вообще, массовое искусство «погружает человека в трясину повседневности, вещизма, в мир непреображенных и непреображающих его переживаний и чувств»[336]; теперь цель искусства одна – получение наслаждения, удовольствия. Но получение удовольствия – это самый простой способ ухода от действительности, не требующий интеллектуального напряжения и делающий человека пассивным и безмыслящим. Именно так характеризуют современную ситуацию исследователи; как на частном уровне (единичного субъекта), так и на более масштабном (общества в целом). Мещанский образ жизни, возведенный в культ утилитаризм, успех любой ценой, стремление к материальному достатку – непременные атрибуты современного «культурного» человека. По нашему мнению, невротиком человек становится из-за популяризации низменных ценностей, танатальных не только в физическом, но и в духовном смысле, антагонистичных человекотворящим качествам. Кроме того, материальный гедонизм приводит к духовному аскетизму.
Как отмечается, миф о герое-идеале придает смысл жизни «массовому человеку», давая ему некие образцы поведения и адаптируя к существующему социальному порядку, а также приводит массы в движение; миф о герое именуется формой мягкого насилия над разумом субъекта[337]. Стоит предположить, что культивирование такого идеала, согласно которому жить надо богато, а само это материальное благосостояние должно приобретаться легко, без излишней напряженности и трудоголизма, является одной из причин преступности: человек стремится к воплощению данного идеала в соответствии с усвоенным сценарием – получить максимум, а сделать минимум. «Живи в кайф», - декламирует реклама. – «Бери от жизни все», «Живи играючи», «Ведь вы этого достойны». Возникает вопрос: за что достоин? За какие такие великие достижения? Фразами, подобно этой, усыпляется, во-первых, всяческий мотив к труду (ведь я уже этого достоин), а во-вторых, прославляется самолюбие человека, объективно ничем не подкрепленное. Просто достоин и все. Но если я не работаю, потому что достоин большего – ведь в телевизоре так говорят, а там точно знают, - нужно найти где-то деньги, чтобы купить рекламируемый продукт; ведь я же его достоин. А где их найти? Остается только преступность.
Релятивизация ценностей во многом обязана пресловутому идеалу игры. Причем необязательно в прямом смысле «живи, играя!», но и в более абстрактном. Имеется в виду игра ценностями. Многие современные масскультурные бренды лоббируют ценности, прямо противоположные тем, в духе которых воспитывались прошлые поколения. Естественно, нельзя сказать, что «прошлые» ценностные ориентации абсолютно все без исключения заслуживали высокого аксиологического статуса, но тем не менее общая их картина носила более человекосозидающие оттенки, чем нынешняя. Так, в основу многих современных брендов закладываются идеи, противоположные ценностям упорства и труда. Если раньше образ жизни по принципу «Без труда не выловишь рыбку из пруда» был достаточно хорошо укреплен в общественном сознании, то теперь труд (особенно честный) скорее высмеивается. Цепко хватаясь за потребителя, бренды отвоевывают аудиторию как друг у друга, так и у семьи, школы и вуза[338].
Еще один яркий пример релятивизации ценностей – культ насилия на телевидении. Казалось бы, мы давно отвыкли от глупых боевиков с Жан-Клод Ван_Даммом и Чаком Норрисом в главных ролях – эти имена-то сегодня мало кто вспомнит. Но несмотря на эту кажимость, нынешние фильмы отличаются еще большим цинизмом. Если в тех было только насилие, то в современных к нему прибавляется еще и откровенный цинизм. И российский кинематограф в этом плане не только не отстает от западного, но и, наверное, опережает его. Стоит только обратить внимание на такие фильмы, как «Жмурки» или «Груз 200»… Конечно, в этих фильмах можно найти некое позитивное содержание. К нему стоит отнести режиссерское стремление показать определенную (иногда историческую) ситуацию во всей «красе» (и даже с «приукрасами»), что передает зрителю знание о каком-то аспекте действительности. К позитивным аспектам подобных кинематографических произведений также относится удовлетворение потребности в так называемых острых ощущениях; вместо того, чтобы вносить в реальную жизнь риск и опасность, лучше просто посмотреть соответствующий фильм, почувствовать страх посредством идентификации с персонажем, и остаться удовлетворенным этой компенсацией. Но всегда ли искусство, проникнутое насилием, работает в таком положительном компенсаторном русле? Естественно, нет. И его антипроявлением может быть, наоборот, стремление воплотить в жизнь увиденное на экране. Некоторые исследователи считают, будто кинобоевики выполняют роль непосредственного руководства к действию в случае появления опасности (противостояние насилию), забывая о том, что эти же самые боевики актуализируют не только умение противостоять агрессии «большого города», но и саму эту агрессию. Стоит также в качестве околопозитивного аспекта данной киноиндустрии выделить эпатаж, во многом противопоставляющий себя сентиментализму и кинобанальности. Но в целом это противопоставление не выходит за рамки того самого китча, внутри которого находятся кинобанальность и «мыльная» сентиментальность. Главное – во многих фильмах насилие демонстрируется так, что у зрителя оно вызывает улыбку, то есть происходит комедизация и эстетизация насилия и смерти. И где здесь кончается юмор, где прослеживается сарказм и где начинается трагедия? Нет конкретной демаркационной линии. Отсутствие такого водораздела указывает на переоценку ценностей, но в какую сторону она заводит?!
Конечно, массовая культура не сводится только к подобным тенденциям: по телевидению иногда показывают хорошие, добрые фильмы, способные оказывать положительное воспитательное воздействие на общество, которые обладают высоким уровнем популярности среди населения. Однако сосуществование кинопроизведений, кардинальным образом отличающихся своим наполнением, может вести потребителя к этическому релятивизму, который смыкается с аморализмом[339]. Играть, жонглировать можно далеко не любыми ценностями.
К тому же, как утверждается, содержание текстов массовой культуры, а также молодежной субкультуры зачастую совпадает с текстами криминальной субкультуры, что говорит о кризисном состоянии культуры вообще, социальной и духовной деградации населения страны, а вместе с тем и росте преступности[340]. Если происходит (а это действительно происходит) криминализация культуры, когда преступное искусство (так называемый шансон, детективные романы и кинофильмы, романтизирующие преступность) и образ жизни в целом «входят» в массовую культуру безо всякого сопротивления последней этой интервенции, стоит задуматься о неутешительном прогнозе относительно дальнейшего развития масскульта и представленности субъекта в нем.
Но представители идеологии гламура и адепты потребительского мировоззрения могут нам ответить, что желание тратить и покупать не возбуждает соблазн преступных деяний, а, наоборот, стимулирует к профессиональному росту. В каком-то смысле они будут правы, оправдывая ту идеологическую позицию, которой придерживаются сами и которую насаждают обществу. Но едва ли можно придумать достойное оправдание тому факту, что повальный консъюмеризм ведет к утилитарному отношению к жизни в ущерб духовному и уничтожает в человеке его естественные здоровые потребности, связанные с духовным ростом и самоактуализацией.
По мнению Э. Фромма, хорошая приспособленность зачастую достигается за счет отказа от себя, от своей личности[341]. Это явление, как нам представляется, имеет место в первую очередь при адаптации индивида к китч-культуре, когда наибольшая приспособленность редуцирует его субъектные качества, что и называется конформизацией, принимающей негативное значение для субъекта.
Можно сказать, что массовая культура (особенно китч) формирует гедониста, основная направленность которого – фрейдовский принцип наслаждения (а не реальности). Представляется, что современный масскульт скорее не ограничивает человека, а направляет его жизнедеятельность на реализацию этого идеала, скорее говорит не о том, что делать нельзя, а о том, что делать надо. В этом смысле заметно отличие от фрейдовской теории, согласно которой культура несет в себе сумму ограничений, хотя это отличие незначительно.
Стоит также отметить, что этот идеал, «райская жизнь», скорее представлен в виде статичного состояния, в то время как подлинный субъект должен постоянно развиваться в процессе жизни и не останавливаться на достигнутом. То есть, идеал должен быть всегда недостижим, и это нормально; своим существованием в сознании субъекта он мотивирует последнего на саморазвитие, на стремление превзойти самого себя, двигаться от актуального (наличного) Я к потенциальному. Как культура не имеет предела совершенствования, так и человек не должен его иметь. Если же предположить, что субъект достиг этого идеала как конечной цели, его субъектные интенции также остановятся, атрофируются, поскольку они способны проявляться только при наличии препятствий, требующих преодоления. Как писал Х. Ортега-и-Гассет, человеческое существование предполагает не пассивность, а борьбу с трудностями[342], и мы однозначно согласимся со словами испанского философа. Существование прецедента достижения целей без борьбы порождает уверенность в возможности легкой жизни и стремление к ней.
Идеал, определенный проект себя (если он связан именно с саморазвитием), если и достижим в потенциальном и актуальном смысле, после его достижения обязательно должен смениться другим идеалом. И тогда человек направляет свои усилия на реализацию уже чего-то другого, но также важного для него лично. Или это может быть не что-то другое, а более высокий уровень предыдущего. В первом случае идеалом может выступать умение свободно владеть английским языком. И когда человек овладевает им, он переключает внимание на другую область достижений; например, выучив английский, он ставит себе цель освоить какую-нибудь дополнительную специальность (хотя она вовсе может не быть связанной с языками и не требовать знаний английского). Во втором случае, получив диплом философа, человек не довольствуется достигнутым и поступает в аспирантуру на философскую специальность. Именно в этом – в постоянном наличии целей и идеалов, в стремлении к изменению себя – и заключен смысл существования человека. Без них субъект лишается путей развития. «Но коль скоро присутствие «экзистирует» так, что в нем просто нет больше несостоявшегося, оно сразу стало уже-не-присутствием, - пишет М. Хайдеггер. – Отнятие бытийной недостачи означает уничтожение его бытия. Пока присутствие как сущее есть, оно своей «целости» никогда не достигло. Добудь она ее однако, и добыча станет прямой утратой бытия-в-мире. Как сущее оно тогда никогда уже больше не узнаваемо»[343]. Похожее высказывание мы находим у Ортеги: «и если кто-то не способен захотеть самого себя, поскольку у него нет ясного представления о том «себе», которого он хотел бы осуществить, то у такого индивида есть только псевдожелания, бледные отголоски каких-то поползновений, лишенные силы и подлинности»[344]. В общем, у человека всегда должен быть образ будущего себя, некий проект «меня во времени», отличного «от меня сейчас». Это отличие, дистанция, разделяющая двух «меня», будет ознаменовать отсутствие целостности, так как, по факту ее присутствия вообще мы должны признать, что нет тождественности между человеком нынешним и его образом будущего себя. А нет тождественности, нет и цельности. Но эта ацелостность, атождественность и есть в данном случае стимул, ведущий в будущее и освобождающий субъекта от конца собственной истории, от затвердевания в состоянии личностного безвременья. Здесь кроется диалектичность человеческого развития: обретая некую целостность, субъект должен ее потерять ради достижения целостности более высокого уровня. От сырого мяса к котлетам, от папируса к компьютеру, от воя к пению – и так далее… субъект поднимается выше и выше, преодолевая одну ступеньку за другой, этаж за этажом, так и не достигая вершинного акме, потому что его нет. Но есть процесс, и в нем – в процессе – кроется весь смысл.
Естественно, в современных условиях далеко не каждый молодой человек способен достичь пресловутого потребительского гедонистического идеала, поскольку общее материальное благосостояние масс не соответствует его реализации. В таком случае – в чем и заключена аналогия с теорией Фрейда – формируется невротик, который стремится стать богатым и уважаемым в обществе, пытается во что бы то ни стало соответствовать данному идеалу, но у него это не получается, что связано преимущественно с недостатком финансовых ресурсов: ну не может он позволить себе тратить в ресторанах и ночных клубах больше, чем зарабатывает. И возникает классическое фрейдовское противоречие между принципом наслаждения и принципом реальности: первый требует одного, а второй ограничивает в достижении идеалов первого. Также этот феномен, принимаемый форму внутриличностного конфликта, можно объяснить с позиции диспропорционального соотношения «Я-реального» и «Я-идеального», где первое не может приблизиться ко второму, и сохраняемая между ними дистанция рождает фрустрацию и отчуждение. Тем не менее, какую бы модель объяснения данного феномена мы ни взяли, суть остается одна – массовая культура (преимущественно китч) со своими ценностями и нормами конституирует невротика. Развитие современной цивилизации, по утверждению Г. Лебона, создало у человека массу потребностей, но не дало ему средств для их удовлетворения; именно так в душах появилось всеобщее недовольство[345]. О похожем явлении пишет Р. Генон. Современная цивилизация нацелена на создание искусственных потребностей, и создает она их больше, чем способна удовлетворить; а чем больше потребностей, тем больше вероятность их неудовлетворения[346]. Как точно подмечает О.С. Алейникова, в условиях современного общества обостряется конфликт между ценностями и потребностями, которые создают средства массовой информации, и средствами их достижения, в которых многие аспекты (политические, экономические и т.д.) кризисного общества ограничивают человека: и разрыв между желаниями и возможностями их осуществления рождает неудовлетворенность, страх и ощущение беспомощности[347]. В общем, на данный разрыв, на противоречие между потребностями и средствами их удовлетворения, желаниями и возможностями, указывают разные авторы – как иностранные, так и российские, как представители прошлой эпохи, так и современные. Собственно, занимающие далеко не последнее место в обществе потребления реклама и маркетинг, актуализируя в человеке все новые и новые потребности и заставляя его покупать все новые и новые товары без сопоставления их стоимости с уровнем личного дохода, создали такое явление, как массовая кредитомания, которая, в свою очередь, привела к раздуванию экономического пузыря. Его лопанье ознаменовало приход экономического кризиса. Вообще, система кредита достаточно парадоксальна, так как она позволяет получать, не заработав, позволяет потреблению опередить производство, - так что кредитование стоит назвать одним из детищ эпохи потребления. Детище, которое, путая причину и следствие (протизводство и потребление), искажает время. Вещь, взятая в кредит, убегает во времени от своего владельца, а владелец, соответственно, не будучи полноценным владельцем, отстает от вещи.
Однако наши рассуждения могут показаться читателю весьма однобокими и вследствие этого вызвать следующего рода упрек: если культура создает для человека идеал, которого он не может достичь в актуальном бытии, то это еще не повод обвинять культуру в создании невротика, - ведь идеал должен наличествовать в сознании каждого человека, а иначе ему незачем и некуда будет развиваться. Да, одной из отличительных особенностей человека от животного является стремление к развитию (ставить цели и достигать их, преодолевая тем самым самого себя – прежнего себя), и только зрелый человек способен переходить в свою новую, более высокую ипостась путем преодоления трудностей и препятствий на своем пути, тем самым переделывая самого себя. Человек без идеала – не субъект, не полноценная личность. Но закономерным образом встают две проблемы.
Первая заключается в разумном соотношении Я-настоящего и Я-идеального, посредством которого перед субъектом стоит действительная возможность путем приложения усилий, активности и самодетерминированности сократить эту дистанцию. Если высота требований культуры не соотносима с настоящими возможностями субъекта, то движение к данному идеалу становится бессмысленным, и возникает целесообразность понизить планку, изменить Я-идеальное (стратегия зрелой личности, прекрасно понимающей и осознающей эту – может быть, не столь простую - истину). В другом случае, при нежелании или невозможности такого изменения человек зацикливается на недостижимом и уходит в невроз (стратегия незрелой личности). С одной стороны, культура создает возможность субъекту для самореализации путем преодоления трудностей, а с другой – превращает субъекта в невротика (если трудности слишком высоки). Здесь мы видим один из аспектов двойственной природы воздействия культуры на субъекта – как его создание, так и его уничтожение.
Другая проблема заключена в осознании себя субъектом своей жизни, который сам ставит перед собой цели, смыслы и идеалы, а не ориентируется только на массовую культуру как на референтное большинство. Вряд ли можно назвать в подлинном смысле субъектом человека, интериоризировавшего культурные представления о самом себе (реальном и должным) и принимающем их за свои, когда внешняя по отношению к человеку культура становится его внутренним цензором – инстанцией «Сверх-Я»; подлинный субъект имеет свои смыслы и ценности, которые могут отличаться от смыслов и ценностей той или иной культурной общности. То есть, подлинный субъект в данном случае характеризуется не только умением достигать идеалы, но и умением самостоятельно их ставить перед собой, не растворяясь в требованиях моды и не растрачивая свои усилия на погоню только за материальными ценностями, забывая при этом о духовности. К тому же все-таки идеалы низших слоев массовой культуры отличны от идеалов более высоких уровней; вторые характеризуют себя как более духовные, но они в меньшей степени воздействуют на общественное сознание, так как китч-культура обладает большей широтой, чем, например, арт.
Конечно, трудно провести ясную грань между «своими» и навязанными извне ценностями. Постмодернизм, например, не приемлет существование такой границы, а знаменитый психологический принцип «внешнее через внутреннее» хоть и принимает существование «своих» ценностных ориентаций, но предполагает, что изначально они возникли на основе культурных норм и традиций, которые интериоризировались и модифицировались индивидом. Данный принцип представляется нам более оптимистичным, чем воззрения постмодерна, и все-таки не прослеживается возможности четко разделить «свои» и внешне-культурные ценностные ориентации, поскольку массовая культура в любом случае оказывает на каждого из нас свое воспитательное влияние и в той или иной степени закладывает в наше сознание определенные ценностные ориентации и модели поведения. Индивидуальное и общественное, личное и культурное – враги, постоянно сталкивающиеся между собой в противостоянии, завершение которого пока невозможно увидеть.
С точки зрения ортодоксального психоанализа, культура накладывает запреты, а искусство обладает терапевтической функцией (в том числе и китч-искусство). Человек, фантазируя, создавая мысленную репрезентацию реализации своих влечений, боится ответственности перед самим собой (точнее, перед инстанцией Сверх-Я). Далеко не каждый берет ответственность за собственные фантазии, содержание которых расходится с общественными требованиями и нравственными предписаниями, то есть не признает некоторые желания своими. Искусство же ставит человека в позицию "зрителя" и дает ему возможность избавиться от комплексов, избегая мук за авторство своих желаний. Согласно психоанализу, ядро любого искусства - нечто асоциальное и запретное в культурном смысле, а каждый человек - противник культуры, лишающей его своей природы. Имеет место следующая причинно-следственная зависимость: чем выше уровень культуры, тем больше степень невротизации, так как каждая ступень культурного развития "сопряжена с установлением новых ограничений внутреннего (морального) или внешнего (правового) порядка, новых запретов, сужающих сферу дозволенного, новых препятствий на пути к удовлетворению инстинктов"[348]. Эти инстинкты представляют опасность для культуры, и, по замечанию Ю. Бородая, без искусства здание культуры рухнуло бы. Смысл искусства сводится к производству иллюзий, смягчающих боль от возрастающей массы лишений.
С одной стороны, искусство, будучи "сточной канавой асоциальных нечистот", стоит в противоречии с культурой. С другой же, оно сохраняет последнюю и не дает ей разрушиться. Однако Ю. Бородай разделяет между собой настоящее искусство и эрзац-искусство и говорит, что первое содержит элементы трагедии, и его цель - принудить человека к осознанию правды о самом себе, которое является наивысшей ценностью, не дающейся даром, а приобретающейся ценой трагедии. Второе же иллюзорно и дает возможность лишь тайком от самого себя изжить "запретные" страстишки, не глядя напрямую в лицо истины. Подлинное искусство побуждает субъекта к серьезным раздумьям о чем-то насущном, рождает в нем глубокие переживания; оно тяжело для восприятия и понимания. Эрзац-искусство освобождает человека от напряженных переживаний и размышлений (потребитель не хочет проявлять мыслительной активности, поэтому ему проще обратиться к эрзац-искусству); оно легко для восприятия и понимания[349]. Если здесь автор говорит именно об искусстве, мы можем экстраполировать его слова на более широкую область человеческой жизнедеятельности - культуру. Такое разделение искусства очень близко по смыслу уже описанному разделению культуры: подлинная (мид, арт) и эрзац (китч). Кроме того, не совсем уместно разделять культуру и искусство, так как они соотносятся между собой как общее и частное и едва ли могут находиться в противостоянии как две равнозначные силы.
В общем, культурная теория психоанализа отличается пессимизмом, абсолютизируя животное начало в человеке как его первооснову, самость, субъектность, и вместе с тем глядя на культуру как нечто инородное и чуждое. Уже рассмотренная нами постмодернистская трактовка зависимости субъекта от бессознательного и от оков цивилизации очень близка фрейдовской. В обоих концепциях субъект отличается неподлинностью, а подлинный субъект остается закованным в цепи.
Влияние современной массовой культуры на субъектность намного сложнее поддается изучению, чем, например, влияние культуры советского периода на субъектные качества личности. Современный масскульт отличается от советского не только степенью авторитарности по отношению к индивидуальному субъекту, но и степенью целостности. Если предшественница современной массовой культуры была внутренне целостна, о чем свидетельствует единая система требований и норм, предъявляемых любому члену общества независимо от его возраста, уровня образования, рода деятельности и т.д., то нынешний масскульт предельно разношерстный. Конечно, гедонизм, о котором мы говорили выше, можно рассматривать как общекультурную ценность, но и она прослеживается не в каждой части тела современной массовой культуры: скорее всего, это более молодежная ценность, к тому же соответствующая в основном китч-культуре. В общем, сейчас масскульт отличается предельной разношерстностью и в некотором роде противоречивостью, что затрудняет его изучение как целостного явления и не позволяет нам констатировать его однонаправленное влияние на субъектность. Также и культивируемые им нормы и ценностные ориентации нельзя обобщить так, чтобы дать им однозначную оценку относительно характера их воздействия на субъекта. И даже если мы их «закуем» в рамки амбивалентности «гедонизм-аскетизм», это обобщение не даст нам возможности исчерпывающе рассмотреть феномен массовой культуры, поскольку, как выяснилось, не всегда данную понятийную связку можно представлять именно как амбивалентность. Но вместе с тем эта связка предоставит нам одну (и очень важную) из нескольких точек отчета, методологических оснований, исходя из которых массовая культура поддается осмыслению как целостный феномен современной действительности.
3. Функциональность/дисфункциональность массовой культуры и феномен отчуждения внутри современного культурного пространства
Неоднозначность массовой культуры более наглядно проявляется при рассмотрении ее функциональных особенностей, концепция о которых выступает еще одним методологическим базисом для изучения интересующего нас явления. Понятие «функция» принято рассматривать в единой плоскости с термином «полезность». Предмет, имеющий определенные функциональные особенности, именно благодаря последним оказывается нужным, необходимым, а значит, полезным для человека, общности людей или социума в целом. Например, говоря о функциональных особенностях некоего предмета быта (телефон, пылесос, утюг), мы подразумеваем то, какие операции, результат которых для нас важен, посредством него можно совершать. То есть, функциональность и полезность выступают синонимами в смысле созидательности, которую они несут. Наоборот, дисфункциональность может быть рассмотрена не только как бесполезность, но и как разрушительность. Причем функциональность и дисфункциональность, несмотря на их казалось бы антагонистический характер, могут уживаться вместе в одном явлении. В настоящей работе мы рассмотрим их сосуществование внутри явления массовой культуры.
Массовая культура как закономерный этап развития общества имеет свои функции. Разные авторы выделяют различные функции массовой культуры. По Л.Е. Климовой, существуют адаптационная, коммуникативная, рекреационная, идеологическая, коммерческая, потребительская, информационно-гносеологическая и ценностно-ориентационная функции массовой культуры[350]. По мнению, А.В. Костиной, массовая культура выполняет следующие функции: адаптационная, создание иллюзорной картины мира (бегство от реальности в мир вымысла и развлечений, который компенсирует негативизм реального мира), защитная и рекреационная, идеологическая (формирование потребительской идеологии, где царит бездуховный консъюмеризм, а красота заменяется полезностью, творчество – возможностями финансов, духовность – жаждой материального потребления)[351]. Стоит отметить, что вторая и третья функции массовой культуры недостаточно разведены в своих отличительных особенностях и представляются если не абсолютно идентичными, то предельно близкими. Вполне логично предположить, что иллюзорная картина мира создается ради бегства от реальности в мир развлечений, что в свою очередь дает возможность отдыха, который компенсирует полученною усталость, затраченную психическую энергию и нейтрализует напряженность. Следовательно, имеет смысл объединить эти функции в одну. Четвертая же функция имеет явно негативистскую окраску, вследствие чего возникает вопрос: можно ли ее вообще называть функцией или более подходящим для нее будет являться термин «эрзац»?
В другом месте своей работы А.В. Костина выделяет следующие функции массовой культуры: адаптационная, коммуникационная, социализирующая, рекреативная, идеологическая и ценностно-ориентационная[352]. Такая классификация кажется немного более узкой, чем классификация Климовой, так как в ней отсутствуют коммерческая, потребительская и информационно-гносеологическая функции.
Естественно, масскульт реализует себя в адаптации субъекта к социуму, в многообразии проведения досуга и отдыха, в идеологическом формировании субъекта, в широте тиражирования и продажи своей продукции, в формировании ценностных ориентаций. Но в то же самое время мы наблюдаем определенную гипертрофию этих функций внутри масскульта – в первую очередь китча.
Массовая культура адаптирует человека к меняющимся условиям его существования, помогает установить контакт с миром, тем самым оберегая человека от отчуждения и связанного с ним одиночества. Но иногда вектор адаптации направляется не на социализацию как таковую, а на маргинализацию; адаптация к маргинальным группам. Кроме того, по замечанию А.В. Костиной, эта адаптация зачастую сводится к пассивному подчинению социальным нормам, где личность нивелируется[353]. Это явление, как нам представляется, имеет место в первую очередь при адаптации индивида к китч-культуре, когда наибольшая приспособленность редуцирует субъектные качества, что и называется конформизацией, принимающей негативное значение для субъекта. При конформизации утрачивается субъектность, но вместе с тем индивид перестает чувствовать себя одиноким. «Конформизм есть плата развитой духовности за подавление чувства одиночества»[354]. С другой стороны, «слабо развитая индивидуальная духовность без особых внутренних конфликтов с самой собою становится на «общественно значимую позицию», и конформизм для нее – вполне естественное состояние духа, уверенного в том, что он служит «общему благу»[355]. Под «слабо развитой индивидуальной духовностью» мы можем понимать субъектность, наличие которой предполагает развитие духа. То есть, конформизм и недостаточно развитая субъектность суть близкие понятия. Высокая же культура ориентируется на адаптацию, сохраняющую человеческую субъектность, на развитие субъектных качеств. Под развитием субъектности в метафорическом смысле можно понимать процесс, при котором ее сегодня опровергает ее вчера, а ее завтра опровергает ее сегодня. То есть, в процессе времени субъект становится «другим», отличным от себя «прежнего»; обнаруживает свою новую ипостась.
Коммуникация зачастую переходит к бессмысленной «тусовочности». Аксиологическое воздействие, входящее внутрь более широкой адаптационной функции, может принимать направленность на присвоение ценностей тех же самых маргинальных явлений (адаптация к эрзац-ценностям, что граничит с ценностной дезориентацией) или просто происходит редукция ценностей, их переоценка «сверху вниз»; в качестве частного примера любовь как духовная ценность трансформируется в секс как плотское наслаждение и только. И вообще, характерная для массовой культуры передача традиций и норм из поколения в поколение может вполне нормально функционировать, но нельзя ручаться за содержание транслируемых ценностей. Таким образом, через призму функциональных особенностей массовой культуры можно рассмотреть ее влияние на субъектность. С одной стороны, оно позитивно (когда идет нормальная реализация данных функций), а с другой же – крайне негативно (когда эта реализация переходит рамки нормальности и принимает гипертровированный, патологичный характер). Собственно, если бы не наблюдалось гипертрофии функционирования массовой культуры, совершенно не требовалось бы разделять ее на уровни.
Выделяется еще такая функция массовой культуры, как защита общества от массы, нейтрализация исходящих от нее угроз, характерных для нашего времени[356]. Такая функциональная особенность напоминает психоаналитический защитный механизм, согласно которому, не имея возможности напрямую выразить свои деструктивные порывы, индивид их выражает в искусственной форме, прежде всего в китче. Конечно, намного лучше, если он будет выражать свой негативизм, например, в текстах песен, а не в реальных деструктивных порывах, но вместе с тем эти тексты могут послужить гимном для слушателей, которые, воодушевившись содержанием, не преминут направить свою агрессию на непосредственный объект. В общем, и эта функция, подобно вышеназванным, имеет свою обратную сторону. В целом же она ничем не отличается от выделяемой А.В. Костиной защитной функции.
М.В. Колесник наделяет массовую культуру также идеалообразующей функцией[357]. Каждой культуре свойственно наличие определенных идеалов, эталонов и ценностных ориентаций. Без них культура не может быть представлена как холон, как целостное явление. Как известно, идеология – это свойственная определенному типу культуры система ценностей, эталонов и образцов жизнедеятельности. Поэтому идеалообразование, по нашему мнению, созвучно идеологической роли масскульта.
Возвращаясь к вышеприведенным классификациям функций массовой культуры, которые как взаимодополняют одна другую, так и друг другу противоречат, возникает необходимость создать единую классификацию. Нам представляется уместным в данную классификацию внести такие функциональные особенности, как:
1. адаптационная (внутрь которой входят социализирующая, идеологическая и аксиологическая),
2. коммуникационно-информационная (как общение «ради процесса», доставляющего удовольствие, так и удовлетворение гносеологических потребностей),
3. рекреационно-компенсаторная (отдых, достигаемый в том числе путем виртуальных иллюзий, изменяющих сознание средств и т.д., который несет в себе компенсаторный эффект).
Предлагаемые Климовой коммерческая и потребительская функции мы не вносим в нашу классификацию, так как они действуют скорее не как самостоятельные феномены, а являются непосредственными придатками выделенных функций; так, потребление выступает результатом адаптирующего (идеологического и аксиологического) воздействия на массы, а также средством снятия напряжения и отдыха, что связано с реакционно-компенсаторной функцией.
Согласно концепции Э. Фромма, человек, убегая от свободы и тем самым лишая себя субъектности, осуществляет эскапистский тип поведения путем деформирования своих потребностей[358]. Нам представляется разумным концепцию основателя гуманистического психоанализа экстраполировать на проблему субъекта, находящегося внутри массовой культуры. Так, субъект, деформируя свои потребности, «бросает» себя в поле масскульта, который функционирует уже не в соответствии со своими исконными функциями, а посредством их такого же деформированного вида, ввергая субъекта в пространство неподлинного существования. И тогда искажение субъектных потребностей идет параллельно с искажением функциональных особенностей массовой культуры. Причем нельзя однозначно сказать, что первое здесь является причиной для второго, равно как и наоборот. Скорее, этот механизм, эта детерминация представляет собой замкнутый круг. С одной стороны, потребности масс деформируются, тем самым «подминая» под себя функциональные особенности массовой культуры. С другой же – массовая культура как совокупное поле, охватывающее массы, путем своих функциональных эрзацев навязывает реципиентам потребности, не отличающиеся подлинностью, тем самым расширяя область китч-культуры среди масс. Как технология китча порождает десубъективированного индивида, так и, в свою очередь, этот индивид укрепляет китч – необходимую ему область потребления. Китч-культура искусственно вызывает спрос на свою продукцию, после чего утверждает, что именно этого и требовали массы.
Э. Фромм выделяет пять основных потребностей, у каждой из которых имеется свое эрзац-проявление: связанность с другими (сохранение своего Я или нарциссизм, а также суррогатное подчинение другим), трансценденция (творчество или разрушение), укорененность (братство или инцест, независимость или ее отсутствие, свобода или безответственность), идентичность (индивидуальность или тотальный конформизм), потребность в ориентации и приверженности (рациональность или иррациональность, наличие индивидуальной картины мира или мифологической)[359]. Каждая из этих потребностей (индивидуальный уровень) коррелирует с массовой культурой через ее функциональные особенности (общесоциальный уровень), в первую очередь именно через адаптационную функцию последней. Кроме того, эти потребности имеют прямое отношение к выделенным нам субъектным качествам (автономность, целостность мировоззренческой позиции, осознанность), но субъектные качества представляются более широкой областью, чем описанные Фроммом потребности; эти потребности коррелируют в основном только с автономностью (потребность в укорененности, связанность с другими) и целостностью (идентичность и потребность в ориентации и приверженности), субъектную осознанность затрагивая лишь поверхностно. А поскольку творчество как ведущая характеристика субъектной активности есть одно из основных качеств субъекта, не представляющая из себя отдельного модуса субъектных качеств, а проходящая через все три модуса, то потребность в трансценденции мы не станем относить к какой-то конкретной характеристики субъекта.
Несмотря на позитивность и ценность массовой культуры для общества и отдельного субъекта, заключенных в ее функциях, все-таки каждая из функциональных особенностей масскульта имеет свое антипроявление, которое характеризуется уже не позитивным характером влияния на субъектность, а, наоборот, негативным. Следовательно, эти «побочные эффекты», эти функциональные эрзацы, формируют некую совокупность, которая образует другой ряд функций массовой культуры, принципиально противоположный ее первоначальным функциональным особенностям. Это созвучно мысли П. Сорокина, согласно которой культура содержит внутри себя «вирусы» распада и разложения, которые неактивны во время расцвета культуры, но при растрате последней своих творческих сил они становятся активными и обращают многие добродетели… в пороки[360]. Отличие нашего подхода от подхода Сорокина заключено в том, что мы эти «вирусы» рассматриваем не в хронологическом смысле расцвета и распада культуры и не придаем особого значения истории становления культуры. Конечно, ее не стоит умалять при исследовании культуры в целом, но для нашей работы историко-хронологические аспекты не являются предметом рассмотрения. В общем, обращаясь к диалектике высокого и низкого, духовного и мирского, проведенная в данной работе рентгеноскопия массовой культуры позволяет сказать, что ее функции воплощают в себе ее дух, а дисфункции – бренное тело.
С одной стороны, мы говорим о социально-культурном кризисе, свойственном современному обществу потребления. С другой же – этот кризис распространяется не на весь социум в целом, так как нельзя все социальное пространство связывать с безмерностью потребления, неистовством гедонизма, а всю культуру рассматривать как китчевое бескультурье, учитывая выделенные нами ее дисфункционалы. Конечно, сейчас имеют место негативные стороны социально-культурной действительности, которая сама выворачивается наизнанку и, подобно функциям масскульта, находит свои антипроявления. Так, «с реализацией человеческих целей пришли антицели, с логикой — алогика, с этическим — антиэтическое, с эстетическим — антиэстетическое, с культурой — антикультура и т.д.»[361]. Но этот глобальный приход алогики, антиэтики, антиэстетики и антикультуры тем не менее не заслоняет собой полностью логику, этику, эстетику и собственно культуру. То есть, он не знаменует собой их уничтожение. Просто бинарности сосуществуют вместе в одном мире, в едином антропном пространстве. Правда, это сосуществование не может выражать какое-то конкретное время, определенный исторический период, так как, по нашему мнению, оно имело место всегда, равно как всегда была массовая культура; повторим нашу мысль о том, что масскульт одной эпохи отличался от другой своими качественными характеристиками. Главным является то, что единой высокой или единой низкой культуры не было никогда, поскольку любой исторический период характеризовался одновременными культурными «взлетами» и «спадами». Если одно сообщество можно было назвать высокоинтеллектуальным, то другое заслуживало статуса «быдло», но их сосуществование являлось (и является) нормой. Однако возникает вопрос о критериях, исходя из которых мы позволяем себе говорить о «верхах» и «низах», о здоровом и больном.
Человек становится здоровым только в здоровом обществе. Поскольку наше общество с присущей ему культурой здоровым назвать сложно, то соответствующим образом можно охарактеризовать и состояние субъекта, обнаруживающего свое существование в этом социуме. Но существование ли? Наверное, да. Существование, лишенное сущности, под которой мы в настоящей работе понимаем субъектность. «Именно несовместимость сущности и существования и есть основной показатель отчуждения человека, его болезненного состояния. Человек тогда является действительным, когда он имеет соответствующее своей сущности существование»[362]. Но отчуждение от чего прослеживается в условиях современной российской массовой культуры? От культуры элитарности? Едва ли. Современный massmen считает себя счастливым, и ему в голову не приходят никакие мысли об отчужденности, равно как он не испытывает ни малейшего интереса к высокой культуре, не считая ее высокой. Но если он не способен рефлексировать и отдавать себе отчет относительно своего образа жизни, это еще не указывает на отсутствие отчуждения. Это указывает скорее на бессознательный характер его протекания.
От чего отчуждение? Не от здорового общества, которое имело место в основном лишь на страницах социально-философских и научно-фантастических утопий. Не от высшей культуры и искусства. А от самого себя. От своей подлинности и субъектности. Massmen не знает, что такое самоуглубление, оно ему не нужно, поскольку углубляться некуда. Именно поэтому Х. Ортега-и-Гассет называет неподлинное существование противоположностью самоуглубления; самоотчуждение – вверганием себя в неподлинность путем позволения окружающим повелевать собой[363], а самоуглубление, наоборот, проявлением своей человечности, которое обеспечивает культурный прогресс[364]. В страхе осознать, признать и ощутить свою внутреннюю пустоту, индивид, используя психологические защиты, скрывает ее за ликом вещественности и материальной наполненности, потребляя все подряд, обеспечивая тем самым процесс самоотчуждения. Массоид делает все возможное, чтобы не встретиться с самим собой лицом к лицу, чтобы не увидеть себя в зеркале. И внешние симулякры типа телевизионных сериалов и ток-шоу, моды и рекламы, служат ему своеобразным заслоном, занавесом, скрывающим его от себя самого. Человеку тяжело быть самим собой, так как это тяжкое бремя, находящееся в одном пространстве с одиночеством. Выбор «не быть как все», воля к одиночеству «отклеивает индивида от «всех» и дает начало формированию личности»[365]. Но если человек погружается в мир однотипных сериалов и во время просмотра бессознательно идентифицирует себя с их персонажами, пытаясь прожить жизнь виртуального героя как свою собственную, это не делает его подлинным субъектом. Скорее наоборот.
Говоря об отчуждении, следует вспомнить марксистское понимание этого термина. По Марксу, в условиях капиталистических (товаро-денежных) отношений человек, производя в процессе труда какой-либо товар, отчуждается от его результата. Его успех зависит не от внутренних особенностей, не от уровня образованности и культурной развитости, а от умения продавать собственный труд или товар как результат функционирования своих [профессиональных] способностей. То есть, его стремления вместо саморазвития как человека сводятся лишь к саморазвитию себя как профессионала с целью успешно преподнести себя рынку, к чему, по замечанию Н.Д. Абсавы, сводится смысл жизни[366]. Мы бы не стали настолько критически относиться к проблеме отчуждения, рассматриваемого именно в этом ракурсе, так как профессиональное становление – необходимый аспект личностного развития субъекта. Другое дело, если он, будучи вовлеченным в трудовой процесс, ставит перед собой меркантильную цель получения безразмерно высокого материального благосостояния, и при этом напрочь перестает стремиться к другим формам развития, кроме оттачивания мастерства выгодно преподнести себя как ценного производителя, тем самым превращая себя в товар.
Но при анализе данного аспекта проблемы отчуждения мы выходим уже на несколько иную область – контекст социально-политических отношений, которая в отдельном смысле не является предметом нашего анализа. Хотя ее стоит затронуть, поскольку ее характеристики напрямую коррелируют с характеристиками соответствующего типа массовой культуры, а также выход на данную область позволяет в более широком ракурсе рассмотреть проблему отчуждения. В этом случае последнее также характеризуется отходом от себя и своей сущности, но уже не в условиях модной деинтеллектуализации и культурного неблагополучия общества в целом, а в условиях необходимости труда.
Отчуждение, кроме выше обозначенного описания данного слова, может происходить не только от труда и от самого себя, но и от какой-то культурной традиции, внутри которой был воспитан субъект и носителем норм и предписаний которой он должен быть. Так, заключенный может отчуждаться от окружающей его тюремной культуры, не желая жить по соответствующим ей понятиям, использовать ее сленг и возводить в ранг авторитета ее «идейных» носителей. Но в таком случае от рискует стать отверженным, что часто несет за собой, как минимум, недоверие к его персоне со стороны носителей данной культуры, но и откровенную ненависть последних к нему. В соответствии с законами социальной психологии, человек, не разделяющий взглядов культурного сообщества, внутри которого он находится, становится для этого сообщества маргиналом, потому что он не такой, как все. Он – прокаженный, заброшенный на периферию человечества. Рассматривая изначально маргинальные по отношению к общечеловеческой культуре объединения, имеет смысл такого человека представить в качестве носителя этой самой общечеловеческой культуры, а не той маргинальной культурной прослойки, которая отказывается принимать его как своего. То есть, один и тот же человек для одной культурной традиции будет являться аутсайдером, в то время как для другой – нормальным субъектом или даже лидером, идейным сподвижником. Все относительно – и в том числе относительно положение человека по отношению к культурам и субкультурам; для одних из них он свой, для других же – чужой (или даже враг). Поэтому мы выходим на абстрактность понятийной репрезентации термина «отчуждения». Представители массовой культуры отчуждены от элитарной, равно как наоборот. В то же время представители китч-культуры отчуждены от арт-потока масскульта, и вместе с тем налицо обратная тенденция – взаимоотчуждение. Интеллигент - честный труженик – воспринимается негативно в глазах законников, в то время как последние не вызывают у интеллектуалов никакого уважения. Норма бывает различной, патология – тоже. Но если существует некая норма, то обязательно должно существовать ее антипроявление; все нормальным (или патологичным) не бывает.
Если мы направляем свой взгляд к проблеме отчуждения, необходимо помнить, из какого основания мы исходим для анализа современной культурной ситуации. В случае, если мы будем исходить из предпосылок радикального постмодернизма, согласно которому отсутствует грань между подлинностью и отчужденностью, здоровьем и болезнью, то наша работа будет бессмысленным проектом; как можно анализировать болезнь, при этом не принимая во внимание бинарность болезнь/здоровье? Конечно, со стороны современной китч-культуры – исходя из ее собственных оценочных оснований – нынешнее общество вполне здорово и благополучно. Было бы удивительно, если бы китч в своем преимуществе критиковал социум и общественные ценности, что неизбежно привело бы к самокритике. Однако одной из особенностей современного масскульта как раз и является самокритика. Естественно, не весь масскульт в нее впадает, что было бы предельно парадоксальным, но отдельные его элементы, которые можно отнести преимущественно к высоким уровням массовой культуры. Многие говорят о бездуховности американского кинематографа, музыкальной попсы и т.д., но при этом вовлечены в данные явления не намного меньше, чем их «ценители». Как уже замечалось, тенденция осуждения масскульта сама по себе стала массовой.
Ж. Бодрийяр использует термин «остаток» в контексте развития социального. Свидетельством рождения социального послужило открытие первого приюта для бродяг и сумасшедших – тех, кто не был интегрирован в какую-либо группу и оказался вне групп в качестве остатка. Потом социальное расширяется (появляются органы государственного призрения и система социального обеспечения), и остатком выступают уже целые общности. Затем остаток достигает глобального масштаба, он становится обществом в целом, происходит масштабная социализация, характерная черта которой – полное исключение и полное взятие на иждивение, полное разобщение и… полная социализация всех. Социальная институция появляется там, где раньше для нее не было места, возникают социальные науки. Но наверняка если бы не было маргиналов (сумасшедших и обездоленных) то не появилось бы и социальное: действительно, социальное – это инстанция, которая является следствием этого маргинализма. Внимание социальности обращено к остатку, поглощение которого дает ей энергию для нового расширения. Но когда социализированным оказывается все, остатка нет, то динамика процесса становится противоположной, и в остаток выпадает вся доселе целостная социальная система. По мере того, как социальное поглощает все остатки, оно само оказывается остаточным[367], следовательно, оно становится бессмысленным, ведь смысл дан другому, не являющемуся кучей отбросов, в которые превращается социальное. Социальное, по Бодрийяру, исполняет две обязанности: производство остатка (нельзя, чтобы все обращалось внутри социального, остаток необходим) и его уничтожение. В настоящее время социальное [в первую очередь широко распространившийся китч] есть остаток, принявший форму энтропии – в этой зоне безопасности можно укрыться от трудностей и забот взамен прежней жизни…взамен жизни. В процессе нормализации социума на его периферии появляются аутсайдеры (безумцы и преступники), не вписывающиеся в нормальность; собственно, сама нормализация их конституирует – их, наносящих удар нормальности и вместе с тем сохраняющих ее рамки. Таким же образом, рационализация социума приводит к появлению иррациональных переферий (катастроф).
И что же теперь социально, а что остаточно на примере массовой культуры? Можем ли мы однозначно заявить, что китч остаточен? Скорее всего нет, так как он – несмотря на свою акультурность и благодаря широте распространения – объединяет уже не маргиналов, а практически нормальных членов общества. Как раз высшие уровни культуры если и не стали в полной мере остаточными, маргинализированными, то в потенциальном смысле рискуют получить этот «статус». Так, культурная элита перестала быть собственно элитой. Под словом «элита» теперь понимается обескультуренная, но занимающая высокие посты и пользующаяся всеобщим уважением масса. Интеллектуальные профессии типа учителя или преподавателя вуза давно потеряли свой престиж; они стали невостребованными и низкооплачиваемыми. Если сравнить средний уровень зарплат людей, занятых умственным трудом, и представителей рабочих профессий, то мы заметим огромную пропасть между ними. Сантехник и сварщик получают значительно больше, чем психолог или педагог. Мы не умаляем рабочие профессии и нисколько не пытаемся занизить их полезность, поскольку все профессии нужны, но все-таки те сферы деятельности, которые требуют высокого уровня подготовки, должны быть более востребованными и престижными, чем те, специалистов по которым готовят среднеспециальные учебные заведения. Конечно, такую тенденцию – подмена ценностей на рынке труда – вызвали не только культурные факторы, а также и экономические, которые мы не задаемся целью рассматривать, но факт остается фактом. То, что по праву должно находиться вверху, нашло свое место внизу.
Постмодернисты представляют бытие в виде текста. Но так как бытие включает в себя не только то, что видно, слышно и осязаемо, не только то, что не обманывает наши органы чувств и является реальным, настоящим и нормальным, а вместе с тем и область ненормального, которое также является настоящей, следовательно, имеющей свое узаконенное место в бытии, в наличной данности. А значит, текст – это не само бытие, а область нормального, в то время как сфера патологического может быть уподоблена не тексту, а полям, то есть тем [вне-текстовым] местам на листе бумаги, которые обнаруживают свою изгнанность из сферы нормы, которые находят свою онтологическую данность за пределами разумного, понятного и принимаемого. Бытие же как понятие, вбирающее в себя и текст нормы и поля патологии, метафорически можно уподобить документу Microsoft Word, работая с которым, некая потаенная сила вольна распоряжаться по своему усмотрению как семантическим (содержательным), так синтаксическим (структурным) состоянием документа. Но, приглядевшись чуть ближе, в этой потаенной силе мы усматриваем ни что иное, как господствующий в данной исторической формации тип рациональности, который диктует правила игры нормального и ненормального, который отменяет эти правила и на их место водружает новые. За исторической сменой типов рациональности следует изменение правил, а значит, правка содержания документа, о котором мы говорили. Так, от обычной правки, выражающей себя в выравнивании границ, расширении/сужении полей и т.д. меняется состояние оппозиции норма/патология. Если раньше поля составляли один сантиметр, то при их расширении до двух часть того, что раньше было повседневным и общепринятым, становится запретно и табуировано. То есть, игра нормы/патологии созвучна игре текст/поле; между нормальным и ненормальным, равно как между текстом и полем существует незримая грань, устойчивая в своей узаконенности и вместе с тем исторически подвижная. Ведь «…нередко то, что сегодня считается бредом, завтра становится истиной»[368]. И нередко, при выходе маргинальной субкультуры на передний план возникает парадокс, согласно которому меньшинство (политическое, сексуальное, религиозное и т.д.) становится большинством.
Но выходит, что эта правка совершается рукой самого текста, включающего в себя тот или иной тип рациональности, и этот текст есть содержательная часть бытия (wordовского документа), а не более высокая инстанция, позволяющая себе подавлять более низкую.
Существует мнение о том, что границы между нормой и психической маргинальностью создаются запретами и разрешениями[369], что, кстати, объясняет идею о подвижности рамок, согласно которой для каждой временной эпохи существует своя массовая культура со своими идеалами, ценностями и табу. Но если описанный нами китч-идеал создается масскультом, культивируется им, то можно ли безудержное стремление к этому идеалу назвать нормальным, учитывая данное мнение? Для китча как самого широкого уровня массовой культуры это нормально. А для субъекта и его развития? Естественно, нет. Сейчас нормальным человеком – например, автором книг – является тот, кто пишет для массовости. Те же авторы, кто пишет высокоинтеллектуальные труды, являются ненормальными, что доказывает факт непризнанности широкой общественностью их произведений: научные книги, монографии не пользуются спросом и лежат невостребованными на полках библиотек и книжных магазинов (там их намного меньше, так как они не обеспечивают коммерческий успех предприятию). Эти произведения читают только больные люди – больные не столько потому, что они понимают такой специфический продукт, а потому, что их вкусы не соответствует вкусам большинства. Они, будучи непонимаемыми массами, - лишние люди в [массовом] обществе. Поэтому, пытаясь определить норму и патологию, необходимо исходить также из количественных характеристик: то, что признают все, является нормой, а то, что большинство отвергает, стоит за рамками нормальности. Конечно, мы не станем здесь вдаваться в труднопроходимые дискуссионные дебри анализа нормы и патологии, здорового и больного и подвижности демаркационных различий между ними. Скажем только, что постмодернистская парадигма, уничтожающая различия и ризоматизирующая все культурное пространство, является тупиковой. Согласно ей, изучаемый объект не с чем сравнивать, у него отсутствует референтный индекс, и, соответственно, сам процесс изучения обессмысливается. Поэтому мы, вполне уважительно относясь ко многим идеям постмодернистов, все-таки придерживаемся классической (назовем ее так) модели, сохраняющей в себе бинарные различия.
Отчуждение всегда рассматривается по отношению к чему-то (точнее, от чего-то), патология – по отношению к некоторой норме. И прежде чем изучать данные феномены, необходимо обозначить тот объект, от которого происходит отчуждение, и зафиксировать сущность той нормы, по отношению которой проявляется социальная болезнь. Должна быть определенная точка отсчета, которая вместе с тем может быть этой [незыблемой] точкой только в определенный культурно-исторический период: сегодня она одна, а через какое-то время ее привилегированный статус занимает совершенно иная. Главное, что мы всегда будем здоровы в глазах одних и больны в глазах других традиций, отчуждены от одних субкультурных явлений и сопряжены с другими, носящими противоположные первым ценности и нормы. Выздовравливать можно не только от, но и для.
Глава 4. Влияние средств массовой коммуникации на субъектность
1. Широкое поле массмедиа китча
Средства массовой коммуникации, как и массовая культура в целом, являются неотъемлемой частью нашего бытия. Мы видим рекламные щиты, расположенные по всему городу возле крупных магистралей. Мы слышим радио в маршрутных такси. Мы наблюдаем за потоком зрительных картинок, появляющихся на экранах в автобусах. Это вовлечение в массированную коммуникационную игру происходит «само собой», без нашего целенаправленного участия. Что же касается специально запланированного нами отдыха от трудовых будней, то здесь значительно расширяется воздействие на нас продуктов массовой культуры; причем мы сами расширяем это воздействие, когда включаем телевизор с целью посмотреть новости или какое-нибудь ток-шоу. Можно сказать, что реципиент, открывающийся этому многоголосому потоку, сам превращается в продукт масскульта. Взаимодействие между человеком и СМИ можно назвать субъект-объектным, где первый выступает пассивным объектом информационного воздействия, в то время как вторые являются активными субъектами (интерактивные СМИ, виртуальная реальность). И даже самые аскетичные представители современного общества, принципиально ограждающие себя от влияний масс-медиа, не способны в полной мере избежать последних. Не зря Ж. Бодрийяр, учитывая всепроникаемость СМИ, наделяет их вирусной силой и вирулентной заразительностью; они испускают излучение, сравнимое с облучением тел в Хиросиме, но это излучении со знаками, образами, программами, сетями, информация теперь – не знание, а то, что заставляет знать[370]. Основная черта постиндустриального общества – приоритет информационной деятельности, производство не материальных продуктов, а информации и знаний[371], поток которой транслируется через масс-медиа. Так, в современном глобализирующемся мире при помощи средств массовой информации (которые сами по себе унифицированные, использующие обедненный язык) происходит унификация культуры.
Представляется, что феномен эскапизма или отчуждения не имеет значения в контексте массовой культуры, характерной для современного постиндустриального общества: отчуждаться можно от какой-нибудь конкретной субкультуры, от элитарной культуры, но не от массовой. Отчуждение как условие противостояния массовой культуре (прежде всего китчу) стало невозможным. К примеру, Г. Маркузе видит в этом один из аспектов «одномеризации» человека: по его мнению, экспансия общественной жизни вторглась во внутренний мир человека и лишила его возможности изоляции, в которой он сможет мыслить независимо. Уединение видится философом как условие, придающее смысл свободе и независимости мышления[372]. Конечно, временное уединение от многих явлений массовой культуры необходимо для субъекта, но мы можем позволить себе говорить об этом уединении как о потенциальной, а не наличествующей возможности. Если же отбросить в сторону физическое понимание этого процесса, так как это граничит с социальным самоубийством, мы откроем для себя еще и его психологическое понимание, согласно которому субъект в физическом смысле не отчужден от привычного каждодневного поля массмедийности, но находит в себе способности сохранять собственно субъектные качества и не поддаваться веяниям моды, рекламы и т.д. Тем не менее, хотя некоторые люди и обладают такой способностью, подсознательно мир масс-медиа все равно влияет на каждого из нас. Конечно, совсем нетрудно выдернуть шнур телевизора, чтобы освободить себя от навязчивого голоса очередного телеведущего, который пытается донести до нас какие-то сведения. Но невозможно «выдернуть шнур» той реальности (виртуальной, информационной), ткань которой состоит из мозаики сведений, ризомы сообщений, опутывающих все социальное пространство в целом и каждого индивида в отдельности. Недаром Р. Барт задает вопрос: «Часто ли случается нам за целый день попасть в действительно ничего не значащее пространство?»[373]. И отвечает на него отрицательно. С приходом массовой культуры и таких ее тенденций, как мода, реклама, массовая пресса и т.д. мир наполняется сообщениями, каждое из которых что-то значит, привлекает наше внимание к определенному означаемому. Социальное бытие становится семиологическим материалом, что служит появлению семиологии как науки, которая особо актуальна сейчас – в эпоху массового общества.
В постиндустриальном обществе физические свойства пространства и времени меняются, сокращаются, что определяет и культурное сжатие. По мнению К. Ясперса, техника преодолевает время и пространство в сообщениях газет, в массовом продуцировании посредством кино и радио и т.д., что создает ситуацию «соприкосновения всех со всеми»[374]. Объединение всех людей планеты приводит, согласно философу, к нивелированию, где всеобщим становится ничтожное и поверхностное; все одинаково – спорт, одежда, мода вообще. Действительно, средства массовой коммуникации опутали паутиной все социальное пространство. Кроме того, они, по замечанию Г. Маркузе, смешали воедино искусство, философию, политику и религию с рекламой, что означает приведение их к общему знаменателю – товарной форме;[375]. В этот список также стоит добавить науку, так как реклама часто к ней апеллирует, а по сути, прикрывается ей: /«параллельные линии не пересекаются – доказано Евклидом, надежная бытовая техника существует – доказано Zanussi»/ (как вообще связаны между собой параллельные линии и надежная бытовая техника?). Маркузеанское понимание синтеза и эклектики очень близко постмодерновскому: разница только в том, что Маркузе критикует это смешение, а постмодернисты воспринимают его как должное, как черту современной эпохи.
Некоторые исследователи рассматривают СМК как способ управления поведением людей, который можно поставить рядом с орудиями организационно-административного контроля или даже как замещение последних; целостность общества – следствие выработки единого сознания и принятия индивидами одинаковых поведенческих норм[376]. Под воздействием СМК «формируются не только новые потребности у человека, но и активизируется процесс зависимости личности от возросших потребностей»[377]. СМИ, вовлекая личность в информационные отношения, формируют определенную иерархию потребностей и меняют аксиологическую картину общества; путем продвижения в социум негативных ценностных образцов, они подрывают социально-психологическую устойчивость общества[378], и с этой позицией трудно не согласиться, хотя не стоит все-таки сводить сферу деятельности СМИ только лишь к негативности.
В научной литературе прослеживается конкретно контекстуальный анализ воздействия СМК на субъектность. Например, Г.В. Березин исследует особенности влияния СМИ на формирование современных политических ориентаций россиян и называет СМИ фактором влияния на политический выбор[379], а Г.В. Добромелов считает СМК главным фактором формирования выбора избирателя[380]. По нашему мнению, СМИ влияют на ценностные ориентации не только в данном контексте, но их деятельность прослеживается внутри множества других сфер человеческого бытия. Так, И.Р. Ишмуратова отмечает характер влияния СМИ на межэтническое восприятие; например, когда по телевидению постоянно показывают мусульманина, держащего автомат, а не обрабатывающего землю, у общественности возникает устойчивый стереотип относительно представителя данной культуры, и факт его возникновения есть результат манипуляционного воздействия СМИ на респондента и его восприятие «другого»[381]. Правда, примеры с милитаристским чеченцем или мусульманином не совсем удачны, поскольку данный стереотип имеет действительно твердое основание, и СМИ здесь скорее не фальсифицируют действительность, а просто ее укрепляют. Однако существует множество стереотипов (в том числе и этнических), которые СМИ создают и подкрепляют.
К какому бы контексту мы ни обращались, внутри которого СМИ тем или иным образом разворачивают свою деятельность, главным остается то, что СМИ во многом являются детерминирующим фактором по отношению к субъектности. Однако не стоит также забывать о просветительской, информационной деятельности СМИ, внутри которой не прослеживается никакого манипулятивного воздействия. Так, модели СМИ в политическом процессе различаются в двух направлениях: как орудие политических сил (модель доминирования), так и позитивный политический институт информирования общества (модель плюралистичности)[382]. Но эта форма деятельности – просветительски-информационная, - не выступает доминантной. Особенно сейчас – в ситуации тотальной ангажированности СМИ властными структурами.
Пожалуй, самым глобальным СМК можно рассматривать сеть Интернет. Правомерно связывать негативные стороны функционирования сети с уходом от реальности в виртуальный мир, c превращением человека в примитивного потребителя благодаря доступности информации, с ухудшением здоровья, уменьшением межличностного общения и с расслоением общества в связи с приобщенностью или отчужденностью от компьютера[383]. Кроме того, зрительный образ, на который сейчас ориентируется цивилизация, и лавинообразный поток информации, приводят к упадку грамотности. Конечно, нет ничего плохого в доступности информации, но когда это изобилие трансформируется в переизбыток, стоит задуматься о состоянии субъекта, поглощенного этим информационным полем. Сверхвысокая частотность коммуникативных связей, информационная избыточность, свойственная современному постиндустриальному миру, не позволяют основательно и глубоко вникать в происходящее (в достояния культуры и искусства). Следствием этого возникает скольжение сознания по продуктам культуры, и не углубление в их содержание – смотрение вместо созерцания, слушание вместо слышания. Человек не способен качественно обрабатывать огромное количество поступающей информации, в чем выражается диалектика количества и качества. Когда книг, фильмов и музыки становится очень много, субъект перестает в полной мере воспринимать их содержание, оно просто является объектом массового безразличия. «Социальное бытие, конституированное разнородными информационными потоками, находится в состоянии постоянной изменчивости и фрагментации»[384], - пишет А.Ю. Зенкова и отмечает отсутствие устойчивой структуры и сущности этого бытия. Это утверждение имеет прямое отношение не только к социальному бытию, но и индивидуальному, субъективному. Данное отношение к субъектным характеристикам описано Э. Тоффлером, убежденным в том, что СМИ кормят нас раскрошившимися образами, тем самым предлагая несколько видов идентичности на выбор; человек складывает из этих кусочков так называемое «конфигуративное или модульное Я», что объясняет кризис идентичности для многих людей[385]. В калейдоскопическом мире СМИ и СМК нет четких образов, нет устоявшихся фреймов или гештальтов. В нем не «все течет, все изменяется» (линейно-хронологическая модель), а «все накладывается на все» (антилинейная, хаотическая модель), в чем и воплощены принципы интертекстуальности, ризомности и гиперреальности масс-медиа, которые формируют соответствующего им субъекта. В общем, «расщепленные» СМК рождают «расщепленного» субъекта. Следует добавить, что Тоффлер достаточно лояльно подходит к масскультурным процессам и оптимистически оценивает перспективы будущего развития субъекта, что связывает с формированием у него способности к восприятию огромных массивов информации, которая отвечает требованиям новой культуры. Однако обилие информации, ее избыточность и фрагментарность неизбежно приводит к поверхностности как восприятия, так и мышления субъекта[386]. Субъект, воспринимая информационный поток, скорее руководствуется количественным критерием, нежели качественным. Его взор скользит по информационному многообразию, не проникая внутрь и не осмысливая должным образом содержательное богатство (при условии наличия такового) получаемых сведений. В результате зависимость между увеличением объема информации и возрастанием воспринятого смысла становится обратно пропорциональной. Уместной в данном контексте будет следующая шутка: эрудит – не тот, кто проникает вовнутрь, а тот, кто скользит вширь, чей нерефлексивный взгляд охватывает более широкую область текста, а точнее, гипертекста.
Интернет – удобная система, с помощью которой можно найти почти любую книгу, любой фильм. В общем, это универсальный источник информации, удовлетворяющий вместе с тем не только познавательные интересы субъектов, но и их коммуникативные цели. Но вследствие увеличения количества социальных контактов происходит снижение качества взаимодействия партнеров по общению; знакомых становится много, но это увеличение количества в основном способствует только желанию «забить чем-то свободное время» и не несет в себе принципиально полезных функций для субъекта. Стремительное расширение количества не приводит к такому стремительному углублению качества, а скорее наоборот. Это во многом созвучно идее коммуникационной дисфункциональности масскульта. Так называемая «аська» как средство связи используется многими молодыми людьми не для коммуникации как таковой, а именно для связи; редко когда люди в сетевом взаимодействии общаются на какие-то серьезные темы, а лишь перебрасываются сообщениями типа «привет, как дела?». Но этих сообщений очень много, что говорит о количественном аспекте явления, а степень их серьезности и содержательной глубины очень низка, что указывает на качество (или его отсутствие). Показательным примером диспропорционального соотношения количества и качества служит знаменитый сайт «В Контакте», где зарегистрировано многомиллионное число пользователей. Полезность сайта, как и многих других средств виртуальной связи, заключается в отсутствии коммуникационных преград, но уместно пошутить над чаще всего очень большим количеством друзей, отображенным на странице почти любого пользователя. Едва ли из двухсот человек, записанных у меня как друзья, найдется хотя бы 10%, кого действительно можно так назвать. Поэтому стоит поставить вопрос о прочности этих связей. Прежняя естественная реальность (человек-мир-отношения) отличалась более прочными контактами, чем искусственная (человек-компьютер-интерактивность). Нынешняя искусственная реальность во многом реализует номадическую сущность человека, которая изменчива, фрагментарна и способна двигаться в разных направлениях, примеряя разные лица, идеологии и моральные нормы, где нет места строгому мировоззрению и целостной субъектной позиции. Принцип «на том стою и не могу иначе» сменяется принципом «на том стою, а могу как хочу».
Но не стоит демонизировать Интернет, говоря, что он только так и никак иначе влияет на человеческую эссенцию и что описанный ее вид присущ любому и каждому пользователю сети. «И пусть большая часть смс-переписки и чат-общения – пустая болтовня, однако сама возможность постоянно находиться «Вконтакте», в любой момент отреагировать на просьбу близкого человека, оказать ему психологическую поддержку говорит не в пользу точки зрения противников массовой культуры как убивающей интерес к личности Другого»[387], - совершенно справедливо замечает Е.Э. Дробышева. Наверное, банально напоминать о том, что Интернет служит максимально удобным и необходимым средством интерактивной коммуникации, с помощью которого можно не только общаться с близкими вне зависимости от физического расстояния, но и рассылать резюме или статьи в разные издания, а также осуществлять психологические консультации on-line. Кстати, психологическая помощь в сети становится все более и более развивающейся отраслью практической психологии. Со стремительном расширением виртуальной реальности также стремительно расширяются ее функциональные особенности, перечисление которых займет слишком много печатного места. Кроме того, в эпоху сверхбыстрого развития технологий любые попытки перечисления технических новаций терпят крах; к моменту публикации написанное устареет, так как за довольно непродолжительный отрезок времени произойдут еще какие-либо внедрения техники в социальную жизнь.
Многие авторы указывают на такую деструктивную особенность Сети, как ее влияние на идентичность человека. Интернет воплощает в себе всю культуру в целом; если позволите так выразиться, это электронный эквивалент культуры. В нем можно найти и произведения высокой культуры, и ширпотребные клипы, и классическую литературу, и порнографию. Интернет предлагает множество различных сообществ и групп по интересам, куда может вступать пользователь, каждое из которых (подобно культурным и субкультурным явлениям) отличается от других особыми ценностями, идеалами и образцами поведения. Так что, как и все здание культуры, Интернет способен оказывать влияние на идентичность пользователя. Однако не совсем уместно направлять волну негодования в адрес Сети, утверждая, что она позволяет пользователю скрываться за чужими именами и прозвищами, тем самым снимая с себя ответственность за свои деяния внутри виртуального пространства. Наоборот, возможность придумывать себе ник или аватар, не прибегая к использования настоящего имени, в некотором роде облегчает жизнь пользователю, создают для него этакий клапан, через который можно на время отстраниться от тягот реального существования ради того, чтобы отдохнуть и набраться сил для преодоления завтрашних трудностей реальности. Так, в современном обществе каждый человек всегда на виду и знает, что почти в любой момент он может попасть, например, в объектив камеры; особенно это касается тех людей, чья профессиональная деятельность относится к сфере «человек – человек» и тем более тех, кому по долгу повседневной службы приходится часто представать перед публикой. В Сети же человек имеет возможность снимать напряжение «публичности», прячась за какой-нибудь выдуманный ник. Ник делает его свободным и защищает от насмешек, осуждения и т.д.[388] Вполне нормально, что у людей, находящихся в огромном – социальных масштабов – паноптикуме, тщательно выполняющих все ролевые предписания, общественные нормы и табу, возникает желание сбросить с себя сбрую данных предписаний и хотя бы на какое-то время почувствовать себя свободным. Это один из вариантов сетевого достижения – пусть частичного – такой свободы. Поэтому поведение пользователя в виртуалии может быть не всегда адекватным (например, предоставление о себе сведений скорее желаемых, чем действительных), но оно не обязательно указывает на неадекватность его поступков в реалии. Создание сетевой идентичности, отличающейся от реальной, часто объясняется отсутствием у человека возможности выразить все стороны себя в реальной коммуникации и стремлении их продемонстрировать в сети. Собственно, почти также объясняется интерес к компьютерным играм, в которых игрок надевает на себя роль этакого сверхчеловека, способного на все, и реализует желание почувствовать свое могущество и насладиться им. Главное, чтобы Интернет или игры не превратились в зависимость, не стали объектом первой необходимости. Компенсаторная функция – это хорошо, но, как говорится, все должно быть в меру.
Интернет сравнительно недавно стал доминирующим явлением массовой культуры. Ибо до недавнего времени в нем существовало очень малая доля пользователей, и когда он стал массовым, возникла идея «второго» Интернета, потому что «первый» засорился. «Второй» Интернет возникает не сразу, а в процессе приспособления «первого» ко «второму». Но понятие «второй» здесь, естественно, носит аллегорический оттенок, так как на самом деле никакого «второго» Интернета нет. Интернет и есть Интернет. Однако огромнейший содержательный пласт сети, миллионность всевозможных сайтов все-таки можно разделить согласно их полезности, необходимости, эстетичности и т.д. То есть, одни сайты представляют из себя мусор, китчевый спам, в то время как другие более ценны и информационно насыщенны. На этом примере можно сказать, что разрушительное воздействие оказывает китч на арт, на элитарную культуру в рамках массовой. На наших глазах интернет из арт-МК или элитарной составляющей массовой культуры вышел в лоно медиа и даже китча. Хотя нет в этом ничего ни случайного, ни удивительного; совершенно справедливо отмечается, что каждое общество на любой стадии своего развития производит кроме основных еще и побочные продукты цивилизации[389]. Так что эрзацев не избежать.
Вообще, Интернет в отдельности едва ли стоит рассматривать как веяние какой-то принципиально новой культуры, несмотря на его действительную новизну. Нет прослойки общества, фетиш которой – Интернет, но есть множество различных социальных групп, информацию об объекте своего интереса черпающих из сети. Интернет – всего лишь средство информирования и коммуникации. Он является виртуальной точкой притягивания людей и групп, различающихся своими культурными интересами. «Культура Интернета отображает в себе все предшествующие культуры, репрезентируя функции каждой из них, и одновременно обладает новой целостностью, позволяющей человеку ощущать свое внутреннее единство с системой Интернета, что часто является причиной зависимости от нее»[390]. Перефразируя приведенную цитату, скажем, что Интернет скорее не отображает, а вбирает в себя предшествующие культуры. Но вряд ли возможно вести разговор о какой-то интернет-целостности (по крайней мере на содержательном уровне), поскольку сеть не связывает эти культуры в единое целое, не создает внутренне непротиворечивый гибрид [любая такая попытка невозможна], а скорее оперирует ими в энциклопедическом смысле. Соответственно, пользователь сети не может ощущать единство с сетью, но это единство проявляется с какой-либо сетевой областью, с дискурсивным пластом той совокупности сайтов и Итернет-ресурсов, которыми пользуется человек.
А.И. Пишняк противопоставляет СМИ и СМК по критерию различия в их функциональной роли. По ее мнению, СМИ в наше время перестали информировать, а стали воздействовать, тем самым превратившись в СМК – конструктора реальности, формирующего систему ценностей, навязывающего спрос и управляющего потребителем. Автор приводит две противоречивые одна по отношению к другой концепции влияния СМК на личность. Согласно первой – теории «волшебной пули» - эффективность массовой коммуникации непогрешима, и любое сообщение вызывает неизбежную реакцию. Согласно второй – теории «селективного влияния» - восприятие сообщения массовой коммуникации зависит от таких особенностей реципиента, как личностный опыт, уровень интеллекта, черты характера и принадлежность к определенным социальным группам[391]. Вторая теория нам представляется более истинной – мы бы ее назвали оптимистичной в сравнении с первой. Действительно, характер восприятия массмедиа зависит от многих внутренних субъективных факторов. Так, чем выше развиты субъектные качества, тем менее серьезное манипуляционное воздействие оказывают СМК, тем более субъект способен сохранять свою идентичность. Влияние СМК, будучи внешним по отношению к реципиенту, «откладывается» внутри последнего, если его внутренняя жизнь не является достаточно насыщенной, чтобы продуктивно фильтровать воздействия извне, и тогда внешнее закономерным образом заполняет это пустое пространство, становясь внутренним. В конечном итоге формируется тип человека с богатой и эмоционально насыщенной внешней жизнью, но крайне убогим внутренним миром.
Все поле сообщений, свойственное массовой культуре, в которое вовлечен человек, на первый взгляд нельзя назвать гомогенным. Во-первых, оно децентрировано: трудно обвинить какую-то одну инстанцию в посылке всех возможных сообщений рекламно-манипуляционного характера. Так, например, Х. Ортега-и-Гассет считает, что социальные обычаи, диктующие нам правила поведения, сами по себе безличны, так как их создают все и вместе с тем никто; поэтому за обычаи никто не ответственен[392]. Мы можем смело провести параллель между обычаями, описываемыми Ортегой, и навеянными СМИ и модой как их частным проявлением нормами поведения. Во-вторых, нетрудно заметить многообразие конкурирующих друг с другом товаров и культурных образцов; эти товары если не совсем однотипны, так как могут различаться по качеству и другим параметрам, все же являются заменителями друг друга, в чем и состоит конкуренция между ними (например, одновременно предлагаются вниманию реципиента разные сорта пива или сигарет). Исходя из второй предпосылки, отметим, что это кажущееся многообразие по сути является единообразием, которое создает некоторый выбор, но недостаточно широкий. Мы способны выбирать из брендов А, В, С, но не более того. Сама же постановка этого выбора – неотъемлемая особенность современного общества, неизбежность, у которой отсутствует альтернатива. В этом смысле несколько иронично можно относиться к рекламному слогану магазина одежды, который звучит так: «только для вас!». Конечно, чисто бессознательно потенциальный клиент воспринимает его как призыв именно в свой адрес – и только в свой, - тем самым допуская возможность индивидуального подхода к его уникальной личности, при котором услуга/вещь предлагается не в серийном качестве, а в качестве модели – одной-единственной и эксклюзивной. Однако в объективном смысле «для вас» означает «для всех». Но что здесь значит обращение на «вы»? Это просто форма вежливости или апелляция у большому количеству людей? Здесь данная двузначность приводится в единство, так как реципиент воспринимает фразу как вежливую и ни к чему не обязывающую (она ведь не звучит как приказ), и вместе с тем, ее такой же воспринимают и другие потенциальные потребители, что говорит уже о целой аудитории, на которую реклама была направлена изначально. Да и глупо было бы думать, что реклама не направляется на большую массу людей, а придерживается индивидуальной ориентации в отношении конкретной личности. В этом и заключена комичность слова «только», его абсолютная неуместность и несоотносимость с внутренней сущностью самого рекламного дискурса. Миллионы женщин мечтают о хорошей газовой плите, стиральной машине и платье от кутюр, специально созданных для каждой из них.
Но здесь же кроется противоречивость рекламы. С одной стороны, она как бы апеллирует к индивидуальности, непосредственно к «вам», и удовлетворяет индивидуальные склонности и потребности. С другой же – она выступает средством стандартизации. Эти две тенденции, возможно, выступают причиной популярности не только рекламы, но и низших уровней культуры в целом.
Вопрос о выборе или его отсутствии весьма спорен и подлежит не конкретному объяснению – четкому и категоричному, - а скорее верификации, исходящей из определенного основания. Этим основанием может служить конкретный факт наличия двух, трех, …, n числа компьютерных игр, диски с которыми заполняют полки магазинов; выбор широк. Или же более общее основание – сама специфика современного социума и функционирующего рынка товаров и услуг, политических и идеологических предпочтений, атмосферы потребительского гедонизма и утилитарных ценностей; широта выбора сомнительна. У нас нет возможности не делать выбор.
Но все-таки трудно даже сугубо теоретически представить себе четкую грань между моделью и серией, между индивидуально-уникальным и серийным. Хотя бы только с экономической точки зрения невыгодно производить какой-либо товар, отказываясь от поточного (серийного) производства и изготавливая его в индивидуальном порядке, например, на заказ. Абстрагируясь же от экономического дискурса, скажем так: когда все становится уникальным, то и сама уникальность исчезает, когда все вещи становятся моделями, моделей больше нет. Кроме того, «чем больше вещь должна соответствовать требованию персонализации, тем более ее существенные характеристики попадают в зависимость от внешних по отношению к ним задач»[393], вследствие чего происходит утрата вещью своей функциональности, а отличие противоречит самой сущности технического устройства, его техническим нормам оптимальности. Поэтому персонализация здесь выступает не только добавочным фактором, но и паразитарным. К примеру, желание иметь «особенный» автомобиль, единственный в своей неповторимости, перетекает в стремление по-особенному его украсить, внести новые аксессуары, которые могут вступить в противоречие с требованиями к техническому оснащению автомобиля: тонировка, наличие зеркал, яркость света фар и т.д. Естественно, мы не пытаемся оправдать отсутствие выбора, но лишь вносим небольшое дополнение, указывающее на разрушение предельно индивидуальным подходом функциональных особенностей вещи. Поэтому выбор и самовыражение посредством его – не порок, но и не является предосудительным недостаточность свободы выбирать, так как везде есть свои «плюсы» и «минусы». Предосудительно полное отсутствие таковой свободы. Мы не собираемся, претендуя на полное и исчерпывающее описание затрагиваемой здесь темы, переводить разговор в область свободы и ответственности: по этой области итак «прошлось» множество мыслителей. Скажем только, объединяя общераспространенные идеи относительно свободы выбора, что она – несомненная ценность субъекта, но вместе с тем она способна рассматриваться как благо только тогда, когда соприкасается с ответственностью за ненанесение вреда другому человеку своим самовыражением и волепроявлением.
В общем, практически вся массмедийность приобретает ризоматичную форму, внутри которой сосуществуют разные сообщения, различные нормы и продукты культуры, и, как и положено для ризомы, утрачивается различие между существенным и несущественным, судьбоносным и случайным, индивидуальным и серийным. Возможно, здесь имеет смысл ввести новое понятие – массмедийная культура, которая предстает перед нами уже не как тип культуры, который отличен от других типов своим содержанием, а как некая надкультурная надстройка, отличающаяся от известных нам культурных и субкультурных типов прежде всего своим техническим субстратом и способная вбирать внутрь себя различные культурные дискурсы. Она напоминает ту форму культуры, которую А. Моль называл «мозаичной», где субъект, не имея критерия отделять важное от второстепенного, черпает знания от случайного к случайному скорее из СМИ, нежели из системы образования, что приводит к поверхностному восприятию, лишенному приложения критических и умственных усилий, а сама культура представлена в виде разрозненного и обрывочного потока случайных сведений, лишенной структуры и точек отсчета. Субъект скользит по поверхности, ни во что не углубляясь. «Средства массовой коммуникации снабжают без разбора всех кого попало чем придется и когда придется»[394]. Таким образом, благодаря ризоматичности массмедийной культуры субъект, находящийся внутри нее, перестает быть подлинным субъектом, и растворяется в обширной матрице многоголосья и полилога сообщений, каждое из которых, конкурируя с остальными, тянет субъекта в свою сторону, и все это разновекторное поле разрывает субъекта, нарушает его целостность (а также сознательность и автономность), делает его расщепленным, - настоящим шизофреником. В этом и заключается гомогенность массы – в расщепленности сознания, в утрате ценностно-идеологических ориентиров, в «уходе почвы из-под ног». Считается, что «содержание массовой коммуникации далеко отстоит от лучших образцов человеческой культуры; соответственно растущая гомогенность аудитории истолковывается как показатель распространения низких духовных запросов»[395].
Но кто должен взять на себя ответственность за деструктивное влияние СМИ на субъекта? Казалось бы, поскольку поле СМИ имперсонально и децентрировано, нет конкретной инстанции, которую можно обвинить в данном деструктивизме. С другой стороны, несмотря на децентрированный характер СМИ, все-таки внутри данного широкого поля существует множество инстанции, источников воздействий, на которых лежит вина. Но и на вопрос «кто?» напрашивается еще один ответ: государство. Многие ученые связывают деструктивное влияние СМИ на субъекта с деятельностью правительства. Именно государство легитимирует деятельность СМИ, а зачастую само является его источником. Достаточно вспомнить то явление, какое по-прежнему называется выборами, хотя этот термин давно утратил свое первоначальное значение. Какие только изощренные методы не используются государственными деятелями ради продвижения своего кандидата, на что только они ни идут, используя все средства, чтобы оболванить простой народ. Народом управляют (и манипулируют заодно), народ обманывают, народу почти насильственно насаждают определенную идеологию. Следовательно, нести ответственность за анализируемую нами сторону деятельности СМИ и за результат манипуляций должны:
1) конкретные каналы СМИ (локальный уровень),
2) государство и институты, осуществляющие государственную политику (глобальный уровень).
Индустрия развлечений приобщает интерес массы не к актуальным вещам современности, не к злободневным проблемам, а наоборот, к абсолютно ненужной информации, внимание к которой не требует никакого напряжения от реципиента и заглушает в нем голос критического осмыслителя действительности. Так, предлагаются широкому вниманию такие «глобальные» проблемы, как подноготная жизни звезд шоу-бизнеса – в основном китч-исполнителей: подробности личной жизни А. Пугачевой, Ф. Киркорова, Б. Спирс и т.д., информация о том, кто с кем переспал, кто за кого вышел замуж. И массы это съедают. Чего только стоят телесериалы типа «Дом-2», которым не отнимешь ни в глупости и бессодержательности, ни в широте тиражирования. Если раньше наш народ квалифицировался как «самый читающий», то теперь культура чтения освободила место для глупых дискотек, пьянства и наркотиков. У масс нет свободного времени для осмысления чего-то серьезного, надповседневного. А откуда ему – этому свободному времени – появиться, если день занят работой, а вечер уходит на просмотры всяких ток-шоу и распитие спиртного, которое поможет самовосстановиться для завтрашнего трудового дня. И все это засоряет сознание людей настолько, что интерес к действительно важным проблемам культуры и политики уже просто не может появиться.
Нам представляются веяния моды, рекламы и вообще всего спектра СМК в большей степени принадлежащими низовым уровням культуры. «Мощным средством, формирующим фиктивные потребности, служит реклама, которая не столько дает информацию о товаре, сколько сама становится товаром, предметом культуры, часто псевдокультуры»[396], - подчеркивает Л.И. Чинакова. Подобный вывод можно сделать без обращения к логическим умопостроениям, а обратив внимание на внешний массмедийный мир и оценив интеллектуальную «глубину» сообщений, наполняющих теле и радиоэфир, а также стенды и плакаты.
Говоря о самоактуализированной личности, А. Маслоу наделяет ее внутренними нормами и убеждениями, не обязательно тождественными общепринятым, независимостью в суждениях, самодетерминацией и ответственностью. Кроме того, для нее не имеет значения то, как она выглядит в глазах других людей, она автономна. Также необходимо подчеркнуть, что такая личность независима от всего внешнего и от культуры в том числе: для нее главное – мотив роста и развития и устойчивость от воздействий[397]. В сущности, автор подразумевает именно субъектную позицию. Он также упоминает людей, формирующих свои суждения на основе газет, рекламы, телевидения, пропаганды, которым отказывает в самоактуализированности. Можно сказать, что Маслоу противопоставляет самоактуализированного человека и человека масс-медиа. Внимание, уделенное нами к этому автору, объясняется тем, что самоактуализация как таковая представляется нам очень близкой к субъектности смысловой структурой; скорее даже, самоактуализация – это высшая стадия развития субъектных качеств. В общем, СМК в своем большинстве рождают «одномерного» человека, культивируют лояльные взгляды и, подавляя оппозиционные помыслы, препятствуют развитию критического мировоззрения.
Стоит также отметить причинно-следственную двойственность, проявляющуюся в общении между реципиентом и отправителем в контексте массмедийности. С одной стороны, содержание СМК зависит от вкусов, предпочтений и вообще культурного уровня реципиентов (отправитель сообщений должен подстраиваться к получателю, чтобы последнему данные сообщения были доступны). С другой же, СМК задают культурный уровень реципиентов, постоянно «бомбардируя» их примитивными в содержательном смысле сообщениями. Когда вкусы и предпочтения масс не отличаются особой утонченностью, а культурный уровень не характеризуется глубиной, и при этом СМК подстраиваются под эти масс-показатели, круг замыкается; массы получают только то, что хотят, а медиа-пространство не загружает их ничем более. К тому же человек в силу своих особенностей не готов к качественной переработке поступающей информации, многообразие которой сегодня просто гиперогромно, что приводит к снижению культурного уровня как реципиента, так и создателя сообщений.
Согласно известному мнению, описанному А. Молем[398], человек считает наиболее убедительным то, что лучше всего запомнил; а запоминание часто происходит благодаря механическому заучиванию, в котором разумности и рациональности не находится места. На этом принципе основана деятельность пропаганды и прессирования общественного мнения: часто повторяющиеся рекламные лейтмотивы «внедряются» в сознание реципиента за счет этого повторения и тем самым меняют ценностные ориентации и мировоззренческие ориентиры последнего. Действительно, капля камень точит. Это напоминает процесс занудного воспитательного воздействия, когда родители повторяют своему нерадивому сыну одно и то же. Но, в отличие от массмедийного прессирования, родители преследуют позитивные именно для ребенка цели. Еще одно отличие заключено в том, что при таком родительском воздействии ребенок скорее всего начинает испытывать отвращение от всего происходящего и пытается разными способами избежать дотошных нотаций, но не тем способом (изменение себя, перевоспитание), который хотят ему навязать родители. В контексте повторяющихся сообщений СМИ реципиент едва ли станет испытывать подобное отвращение, поскольку характер данных воздействий не подразумевает прямой навязчивости и, соответственно, не вызывает идиосинкразию у воспитанника, а, скорее наоборот, максимизируется в сторону развлечений и удовольствий, с помощью которых можно завлечь реципиента.
Конечно, смысл сообщения, постоянно повторяемого с экранов телевизоров, с обложек журналов, страниц газет или из радиодинамиков, может совершенно не противоречить нравственности и принципам гуманизма, и даже являться высокодуховным и человекоориентированным. Но вместе с тем сам характер такого действия – повторение вместо рационального убеждения – идет вразрез с принципами нравственности, так как все равно является манипуляционным. Поэтому стоит говорить о китче не только в ключе содержания какого-либо явления, но и в ключе характера преподнесения информации о некоем явлении.
Что же касается утверждения о том, что СМИ перестали информировать, то, конечно, не стоит доводить его до абсурда, распространяя на все поле средств массовой информации. Но, опять же, в нем есть и значительная доля истины. Достаточно вспомнить хотя бы известный журналистский лозунг: «Мы делаем новости!». Конечно, к этому лозунгу можно относиться разве только с сарказмом. Как можно делать новости? Их можно освещать, распространять, но не ДЕЛАТЬ. Д.И. Дубровский вполне справедливо называет поиск и фабрикацию новостей, погоню за сенсацией тяжким и кошмарным прессингом журналистского сознания[399]. По мнению Ж. Бодрийяра, искусство, как и средства информации, сегодня скрывают действительность и вместе с тем маскируют ее исчезновение[400]. Массовые коммуникации дают нам не действительность, а головокружение от нее, а мы живем под покровом знаков и в отказе от реальности[401]. Поэтому далеко не любое медиа-сообщение следует считать информативным, даже если реципиент субъективным путем придает ему статус информационного сообщения.
2. Мифотворчество дискурса новостей и политическая ангажированность масс-медиа
Глобализация – это нарастание потока информации, но переизбыток информации ведет к ее исчезновению в реальности, к передозировке, к дезинформации и к энтропии[402]. Информации становится много, слишком много, она охватывает все и вся, и человек теряется в ней, бесследно утопает в этом бескрайнем массмедийном море сообщений, образов и голосов, в этом ареале повышенного шума, в полифонии которого исчезает также и real бытие. Технологии информатизации действуют настолько быстро, что культура и человеческое мышление не успевают их подчинить себе, ассимилировать, отрефлексировать многочисленные сообщения. Хаос СМИ рождает ментальный хаос, хаос в индивидуальных и коллективных представлениях и идентичностях. Именно это мы наблюдаем, обращаясь к такому феномену, как новости, и понимая, что в мире СМК – мире гиперреальности – невозможно разобраться, что является настоящим отражением какого-либо аспекта действительности, события, а что – его полной фабрикацией, так скрывается действительность и скрывается это сокрытие одновременно. А так как зачастую основными каналами информации владеет корпорация или даже один человек, передается то содержание, которое выгодно владельцу. Кроме того, основным источником финансирования СМИ выступает реклама, а потому рекламодатели во многих случаях диктуют свои условия, что является еще одной причиной загрязнения информационного поля СМИ.
Примечательным является то, что слово «новости» перестало быть тождественным самому себе. Это выражается в стирании демаркационной линии между: 1) важными и второстепенными новостями, 2) новостями и домыслами, 3) новостями и рекламными сообщениями. Вместе с тем не существует четкого разграничения между этими тремя «новостными» дискурсами, и разделение, которое мы позволили себе, носит условный характер.
«Фактически средства массовой коммуникации сами и определяют «значительность» фактов, причем делают это почти произвольным образом: ведь именно они подают факты в таком свете, что в сознании миллионов людей весть о замужестве иранской принцессы предстает как не менее важное событие, чем последнее крупное открытие в области атомной энергии[403]». Это отличный пример, приведенный А. Молем для демонстрации отсутствия разделительной линии между важным и животрепещущим и совершенно никчемным. Обращаясь к современности, нетрудно вспомнить не так давно гремевшую новость о свадьбе А. Пугачевой и М. Галкина. Или же многие газеты испещряются «кричащими» заголовками о том, что в мире шоу-бизнеса в очередной раз кто-то кому-то нахамил и кто-то кому-то ответил хамством на хамство. Остается отметить, что сама природа шоу-бизнеса представлена именно в этом (и в основном только в этом). Если таким «новостям» закрыть ход, то шоу-бизнес потерпит огромный ущерб. Очередные скандалы, разборки по мельчайшим поводам – вот что заполоняет эфир, и массы активно воспринимают эти сведения. Или другой пример: пенсионеры, насмотревшись сентиментальных мексиканских (а сейчас уже и российских) мелодрам – так называемых «мыльных опер» - готовы загрызть друг друга, отчаянно отстаивая позицию кого-либо из персонажей. Наблюдая за таким конфликтным процессом со стороны, возникает мысль о том, что конфликтанты выступают за какие-то глобальные революционные идеи, хотя на самом деле… Идеи, которые служат предметом их противостояния, тоже являются своеобразными новостями, так как они передаются по СМИ и предполагают некоторую информационную нагрузку (естественно, максимально низкую). Но насколько это жизненно необходимые новости, чтобы придавать им такое большое значение? При этом действительно ценные факты, затрагивающие всю общественную жизнь, замалчиваются или фальсифицируются.
Новости и домыслы – важная тема, заслуживающая отдельного внимания. Но в настоящей работе мы не можем позволить себе максимально полного ее раскрытия, поэтому ограничимся лишь некоторыми общими идеями. Ни для кого не секрет, что СМИ манипулируют не только сознанием масс, но и фактами. В этом и заключается мифологичность СМИ; миф – «система знаков, претендующая перерасти в систему фактов»[404]. Сколько раз за историю существования СМИ народ «кормили» ложью и фальшью? Сколько в информационном поле обитает так называемой [преимущественно неофициально] конспирологической информации, цель существования которой – компрометация, недопущение серьезного отношения к исследованиям в нежелательном для кого-то направлении? Так, для многих американцев благодаря влиянию на них американского телевидения истинным является мнение, согласно которому именно Россия была агрессором в военном столкновении Грузии и Осетии. Хотя не исключается возможность, что российским массам говорится о таком мнении американцев, чтобы указать на внешнего врага, каковым является Америка, на самом деле народ которой, возможно, такого мнению не придерживается. Где здесь истина? Домыслов может быть сколько угодно, но правда… - это, пожалуй, только то, что человек видит перед своим носом.
Или вполне наглядным примером выступает официальная версия относительно проблемы терактов, захвативших как Америку, так и Россию, согласно которой их инициаторами выступает некий внешний враг – мусульмане для американцев и чеченцы для россиян. Однако появилась альтернативная точка зрения, согласно которой изобличению подлежит не внешний враг, а внутренний – правительство, или, как его называют, мировое правительство. В документальном фильме «Покушение на Россию» (и в выступлениях некоторых ученых) данная концепция хорошо раскручивается. В фильме «Система Путина» также говорится о причастности спецслужб к взрывам. Конечно, мы не станем заходить так далеко, чтобы утверждать ее истинность, но интересным выступает тот факт, что данные фильмы и многие другие, близкие к ним своим содержанием, запретили для показа на российском телевидении. Не является ли этот запрет (как и многие другие) символом сокрытия чего-то?
Версия «внутренних» терактов близка к идее о том, что американское правительство (или мафия, называемая мировым правительством) само устроило взрывы 11 сентября для того, чтобы, в свою очередь, оправдать ввод американских войск в Ирак; сама же «Аль-Каида», равно как и широко распиаренный бедуин Бен-Ладен, вряд ли имеют отношение к данному теракту. В некоторых источниках мы находим предположение о том, что «Аль-Каида» - порождение американских (!) спецслужб[405]. В других источниках говорится о внезапности сокрытия улик от независимых экспертов, о запоздалости проведения расследования по делу крушения зданий Всемирного торгового центра и вообще о слабых местах официальной версии[406]. Однако идеи о мусульманской агрессии намертво крепко засели в головах западоидов, а реальные факты, по законам информационной войны, менее важны, чем содержание массового сознания. Таким образом, и у нас и в Америке решили указать общественности на внешнего врага (не мнимого ли?), переложить ответственность с себя на него и тем самым попытаться сплотить народ вокруг того правительства, которое он имеет, а уж совсем не против него. Кроме того, как в нашей стране, так и в США, запрещается лоббировать контрверсии, связывающие с терроризмом не указанного правительством внешнего врага, а само правительство. Так, многим американским журналистам, выдвигавшим альтернативные версии событий 11 сентября, пришлось искать новую работу.
Если правительство, у которого СМИ под «каблуком», будет постоянно питать общественность фальшью, рано или поздно кто-то докопается до истины; но если создать два рода лжи, противоположные по отношению друг к другу, и поместить общественность как раз между ними, то найти истину будет намного сложнее. Заинтересованные группы власти сливают нам на головы сбивающую с толку информацию для обеспечения секретности существенного знания, и, быть может, убеждение в существовании такой полит-махинации – тоже очередной домысел. Поэтому в наше время стало неизвестно, чему верить и верить ли вообще чему-нибудь. Каждая мысль наталкивается на своего противника, но не нейтрализуется антиподом, любое обвинение встречает оправдание в агональном коммуникационном пространстве, создающем включенность в изнуряющую интерпретационную активность. Например, некоторые ученые говорят о том, что китч-культура, наполненная безнравственностью и аморализмом, - это продукт американских спецслужб, который специально ими «забрасывается» в Россию ради выхолащивания культурного и духовного потенциала нашего народа, ради расшатывания исконно человекоцентрированных и человекоразвивающих ценностей, вместо которых насаждаются культ насилия, власти, денег и т.д. Такой проект, согласно данной концепции, ставит перед собой цель уничтожения России как противника и захвата ее ресурсов. Возможно, это действительно так, но глупо было бы обвинять только американцев в насаждении китча, так как мы и сами не гнушимся снимать фильмы, ничем не уступающие Голливуду по степени кровавости и жестокости, выпускать соответствующую литературу, музыку и т.д. Однако тем не менее у нас нет четкого основания, позволяющего сваливать хотя бы часть наших масскультурных бед на американскую пропаганду и американизацию в целом, равно как и нет оснований этого не делать.
В массовой литературе, часть которой претендует на научность, муссируется идея грядущего глобального потепления. Казалось бы, в ней приводятся хорошо аргументированные доводы в защиту данной концепции, однако многие ученые с ней категорически несогласны, считая, что потепление – это миф, придуманный специально какими-то структурами, которым он выгоден. Возможно, именно этими структурами [если мы будем верить второй точке зрения] сделан заказ на создание, например, фильма «Водный мир», где показывается облик будущего человечества, оставшегося в живых после потопа, вызванного потеплением. Искать здесь истину – в пользу одной или противоположной концепции – дело неблагодарное. Однако, отвлекаясь от этого расхождения, многие факты указывают на то, что не только интерпретации событий и новостные мифы бывают вовлечены в целенаправленную технологию, благодаря которой они создаются кем-то ради определенной выгоды, но зачастую эта технология затрагивает также сферу искусства, к которой относятся кино и музыка. Так, не зря ведь пишутся хвалебные песни в адрес Путина (а в Советстком Союзе сочинялись песни, прославляющие социализм и его вождей), не зря ставятся те или иные фильмы, по сути являющиеся оболочкой, скрывающей некую идею, которую кому-то необходимо донести до широкой общественности. Так, А.И. Фурсов отмечает, что в 90-е годы в Америке вышло много блокбастеров о космической угрозе по заказу НАСА, которое правительство урезало в финансировании; посредством этих фильмов создало выгодную для НАСА атмосферу, благоприятствующую для возобновления финансирования[407]. Может быть, эта мысль выглядит несколько претенциозно, однако следует согласиться с тем, что некоторые продукты массовой культуры создаются «не просто так», а в том числе ради идеологической или экономической выгоды. Так что эти культурные продукты вполне могут быть политически, идеологически или экономически ангажированными.
Причем может иметь место разноуровневое запутывание – как на масштабном (глобальном) уровне, касающееся каких-то общегосударственным или общенародным проблем, так и на локальном, где аспект ставится на мелочные ситуации. Примером первого может служить конфронтация между социализмом и капитализмом. Одни говорят, что первое приводит к благоденствию, а другие - что второе, хотя на самом деле это очередные мифы. Исторический опыт показывает, что эти две глобальные схемы общественно политических режимов если не тождественны, то мало чем отличаются, и вряд ли стоит превозносить или, наоборот, критиковать одно за счет другого. Одни страны живут хорошо, а другие плохо, но и в тех и в других есть частная собственность, равно как и наоборот – кто-то живет хорошо с общественной собственностью, а кто-то не очень. Примером второго служит любая новостная сводка о текущих событиях, которые затрагивают общественность лишь на короткое время и быстро забываются, так как в скором времени на их место приходит муссирование других событий, характерных для этого же уровня.
Когда нам долгое время говорят одно, а потом начинают активно убеждать в противоположном, после чего придумывают что-то третье, то мы становимся настолько запутаны этими «истинами», что не можем быть твердо убежденными ни в чем. Или же когда нас просто пичкают одним и тем же долгое-долгое время, и это одно и то же исходит с экранов телевизора, газетных страниц, Интернета и радиоприемников, причем не давая возможности фигурировать в масс-медийной среде альтернативным точкам зрения (если они есть), благодаря такому постоянному повторению у нас утрачивается способность критически оценивать поступающую информацию. И возможно, что эти самые альтернативные (подпольные) каналы получения информации и есть та самая вторая ложь, которые специально создаются ради усыпления сознания реципиента наличием (или иллюзией наличия) какой-то оппозиции. К тому же многие люди думают так: если есть альтернатива, и если она запретна, значит, та, информация, которая ей преподносится, истинна; а иначе зачем же ее запрещать. Но создатели «истин», естественно, осведомлены о подобных психологических особенностях, чем могут свободно пользоваться, еще более запутывая народ.
Наша мысль созвучна идее С.Л. Бурмистрова о том, что нам известна не реальная картина общественных событий, а только то, что транслируется через газеты и телевидение, а это далеко не одно и то же[408]. Масс-медиа не только отображает реальный мир, но во многих случаях создает альтернативную реальность, которая необязательно копирует действительность, но и противоречит ей. И этот виртуальный мир подменяет реальный, выдается за него. За предоставляемыми общественности сведениями наверняка существует некий «скрытый горизонт», о котором мы можем лишь догадываться, но благодаря своей скрытности он неуловим и не позволяет нам поймать себя за руку. Остается только – тратя время на его поиски – голословно указывать пальцем на кого-то, обвиняя именно его в массовом манипулировании и дезинформации, но… лишь голословно. Многочисленные потоки противоречивой информации создают основную ценность – доверие ко всему, а значит, недоверие ни к чему. Каждая монументальная истина с неизбежностью сменяется следующей – более монументальной и более истинной. А если они существуют одновременно, в сознании реципиента создается настоящий хаос, сплошной когнитивный диссонанс. Приводя пример этого диссонанса, не нужно далеко ходить; ежедневно по телевизору мы видим репортажи об убийствах, грабежах, беспризорных детях, после чего нам показывают всенародное восхищение «Единой Россией». С.А. Батчиков обвиняет в создании такового ментального хаоса тех, кто движет мир к диктату мирового правительства, представленного в транснациональных корпорациях, глобализаторов, одержимых безнравственной идеей «золотого миллиарда», навеянной радикальным мальтузианством[409]. Естественно, его мысль имеет под собой реальную основу, но в то же время в качестве инициаторов можно назвать не только какое-то там далекое мировое правительство, но и непосредственных создателей новостей, репортажей, рекламы и т.д. У каждого из них в отдельности нет цели создать противоречивый ментальный образ в сознании реципиента, но он генерируется благодаря не индивидуальной (локальной) воли, а сосуществованию различных индивидуальных воль, каждая из которых конструирует свой репортаж, отличный от других. Совокупность этих индивидуальных воль – примерно то же самое, что точечная власть в фукианском понимании – децентрированная, разновекторная и исходящая из разных точек локализации властных очагов.
«Сам рынок конспирологической литературы во многом призван дезориентировать людей, топить их в потоке информации, в котором они не способны разобраться, отвлекать внимание от реальных секретов, от тех мест, где их действительно прячут»[410]. И на помощь этому рынку, а точнее, некоторым индивидуальным волям (или очагам власти) приходит наука или некое «знание», всего лишь обернутое в наукоемкую оболочку. Перед этим «знанием» ставится задача – не поиск истины (основная цель науки), а оправдание в глазах общественности действий заказавшей данное «знание» группы лиц. Таким образом реализуется связь «власть-знание». Например, тоталитарные режимы ради оправдания политики террора склонны апеллировать (в основном спекулятивно) к авторитетному мнению. Сталин обращался к марксистско-ленинской философии (и весь социалистический дискурс – не только научный – был ей ангажирован), Гитлер прикрывался ницшеанством; кроме того, в эпоху гитлеризма наука была призвана легитимировать нацизм созданием теорий о расовом превосходстве и т.д. Нынешняя власть просто апеллирует к [безличному] авторитету современников: «по мнению экономистов, принятые нами решения относительно дальнейшего развития страны наиболее оптимальны…». Но отсылка к некоему известному и общепризнанному источнику необязательно легитимирует фразу, содержащую эту отсылку; в некоторых случаях скорее наоборот, отсылка призвана скрывать нелегитимность фразы.
Интерес властвующих верхов способен встраиваться в научный дискурс, задавать тот или иной вектор развития этого дискурса, классифицировать проблемы как научные и ненаучные, актуальные и неактуальные. Однако такая политическая интервенция, в силу степени ее вмешательства, отчуждает науку от самой себя, лишает ее объективности и собственно научности. Конечно, исходя из взглядов М. Фуко на взаимоотношения власти и знания, одно без другого существовать не может, и между ними обязательно присутствует детерминизм. По замечанию Ж. Делеза, знания не могут интегрироваться без существования дифференциальных отношений власти. Но как отношения власти определяют отношения знания, так и происходит наоборот[411]. Похожее высказывание мы находим у Ж. Лиотара, который, считая знание и власть двумя сторонами одного вопроса, поднимает проблему: кто решает, что есть знание, и кто знает, что нужно решать?[412]. Таким образом, оба компонента образуют единую нерасчлененную связку. Но – скажем мы – степень подконтрольности науки властным структурам (в прямом понимании термина «власть») может быть различной, и чем она меньше, тем больше шансов у науки оставаться самой собой.
Когда мы сталкиваемся с различными мнениями, этот информационный конфликт рождает сомнения в истинности одной (или обеих) предоставленных нашему вниманию теорий. Как отмечал Х. Ортега-и-Гассет, «со-существование двух противоположных верований естественно переходит в «со-мнение»[413]. И – по сути дела – это сила сомнения в таком (антагонистическом) случае будет обратно пропорциональна серьезности и убедительности фактов, защищающих данные концепции. Но если ни у той, ни у другой теории нет монументальных фактуальных оснований, с которыми мы как реципиенты были бы знакомы, естественным образом мы должны засомневаться. Но дело в том, что многие так называемые новости звучат именно как домыслы, ничем не подтвержденные. И эти домыслы постоянно, с разных сторон, бомбардируют нас своей «информацией», создавая в конце концов, одновременно как перенасыщение сведениями, так и настоящий информационный вакуум. В результате у человека теряется почва под ногами и он:
а) начинает верить во все подряд, но, так как сведения зачастую противоречивые, его субъектность растворяется, лишается целостности, шизофренируется;
б) перестает верить чему бы то ни было, превращаясь в отъявленного скептика,
в) выбирает наиболее близкую к своей системе ценностей идею или совокупность идей и верит только в нее, - верит скорее не потому, что она более основательно преподнесена по сравнению с другими, а потому, что она ближе его Я.
Кстати, в последней стратегии заключен распространенный социальный стереотип, согласно которому люди стремятся воспринимать ту или иную информацию хотя бы потому, что она подтверждает уже существующую картину мира, и пытаются игнорировать ту информацию, которая отвергает сформировавшееся мировоззрение. Именно так можно объяснить, к примеру, убежденность старшего поколения в том, что по телевизору всегда говорят правду. «…важнейшим признаком терроризма являются не жертвы, а информационный эффект»[414]. Информационный эффект, а не знаниевый… Информация приходит на смену знанию и становится мощным оружием в руках ее распространителей. Информация, формирующая необходимое общественное мнение, сильнее бомбы.
Пожалуй, единственный верный способ выхода из такого положения – дистанцирование от догм, полное неверие. Правда, эта фраза, которую мы позволили себе написать, тоже является своеобразной догмой, которая также не защищена от нападок и сомнений. Представляется, что сама постановка вопроса «где истина, а где ложь?» неверна. Чем больше мы пытаемся их отграничить, тем более запутанный клубок создаем. Нужно не искать, а находиться по ту сторону добра и зла, правды и лжи. To be on the other side.
Проблема домыслов, естественно, не ограничивается только содержанием новостных программ, которые мы смотрим по телевидению или слушаем по радио, равно как она не ограничивается деятельностью СМИ. Сюда же относят сферу образования, которая якобы навязывает нам свои исторические, идеологические и прочие истины, не подлежащие верификации, вследствие чего запутывают человека, топят его в обширной информационной матрице. Не останавливаясь на проблеме образования в отдельности, сделаем вывод по поводу темы информационных домыслов в общем. Субъект – как индивидуальный, так и общественный – воспринимает в своей жизни не структурную модель мира, где все элементы взаимосвязаны, а калейдоскопическую, внутри которой не наблюдается никаких иерархий и взаимосвязей. Ее можно повернуть одним боком, и с ее содержанием вследствие такого переворачивания произойдет трансформация, а можно – другим боком, что заставит содержание измениться как-то по-другому. Из множества противоречащих друг другу истин, идеологий и позиций можно выбирать какую-то одну, две, три, но никогда нельзя быть уверенным в непогрешимости своего выбора. Ибо калейдоскопичность – это хаос, хаос сосуществования информационно-идеологических образцов. Факт – это само сообщение, не подтвержденное никакими фактами. Достоверность – это то, что мы получаем различные сообщения, но не их внутреннее ядро. Достоверность реальности сводится к ее наполненностью сообщениями, но внутри самих сообщений реальность едва ли обнаруживается. Сообщение означает только факт сообщения. Информация и знание – не одно и то же. Как верно замечают А. Бард и Я. Зондерквист, когда мир тонет в океане хаотических информационных сигналов, возрастает ценность существенного и эксклюзивного знания[415]. Здесь вопрос уже ставится не так «Кто нас обманывает?». Теперь он звучит несколько по-другому «Кто нас запутывает?». И несмотря на тот антиверификационизм, которым были проникнуты последние слова, на вопрос «Кто?» мы можем ответить одновременно туманно и однозначно. Это те, кто владеют СМИ.
Информация должна быть источником знаний, но не заблуждений. А дискурс фрагментаризации, запутывающий человека, уничтожает не только подлинное знание, но и, соответственно, интеллектуала, обладающего этим знанием, вместо которого появляется человек с узким и хаотично-осколочным мировосприятием, лишенный цельной картины реальности. В мире глобальных потоков информации никто не претендует на роль интеллектуала, обладающего всеми необходимыми [энциклопедическими] знаниями – широта этих знаний настолько огромна, что не представляется возможным объять необъятное. А когда начинает происходить настоящая бомбардировка противоречивыми сведениями, существование интеллектуала еще более обессмысливается и сводится на нет. В мире, становящемся зыбким от информационных потоков, зыбким становится сам человек, так как переизбыток [противоречивой] информации шизофренизирует его, уничтожает критерии разделения информации на истинную и ложную, что приводит к рефлексивному кризису. Если рефлексия – это способность анализировать знание [не только о себе, но и о мире вообще], то едва ли стоит о ней говорить в ситуации, когда анализ знания сталкивается с настолько труднопреодолимой стеной, что становится почти невозможным; на место восприятия информации и ее обработки приходит психоделическое головокружение от информационных потоков. Субъект под этим страстным напором превращается в чистый экран монитора, точку притяжения для различных сетей влияния, выражающих свое существование посредством языковых игр. Интенсификация и ускорение коммуникационных процессов приводят к массовому замешательству и атрофируют психологические защитные силы перед лицом недифференцированной гиперинформатизации; концепт «личное мнение» размывается. Нет однозначного и общего критерия, способного разделить [легитимировать или делегитимировать] все возможные и существующие языковые игры, с чем связан закат нарраций, а вместе с ним и фрактализация, то есть разделенность, «человека знающего». Множество взаимно противоречивых теорий, игра переменчивой взаимосвязи причин и следствий со вставшим на уши старым добрым принципом детерминизма – все это провоцирует какую-то ментальную эксплозию, взрывная волна от которой исходит во все стороны, чем рождает еще больший псевдоинформационный профицит и неизбежную энтропию знания. Невольно вспоминается бодрийяровский диагноз современности, которую он именует алеаторной, то есть непредсказуемой и неопределенной, утратившей соразмерность субъекта и объекта познания, делающей наше мышление таким же алеаторным, формирующим только гипотезы, не способные претендовать на истинность; коммуникационное пространство усеяно вирусами, которые одновременно являются самой информацией и тем, что ее уничтожает [416]. Новости необходимы массам не столько для информации, сколько просто для развлечения[417], и эту функцию они с лихвой обеспечивают. А когда нет полной информационной картины [и когда, она, собственно, не особо нужна], когда ее место занимает противоречивый эклектичный псевдоинформационный коллаж, невозможно сделать рациональный выбор.
Мегаинформационность можно именовать порнографической информационностью с ее текучестью, какой-то принудительной читабельностью и особенно противоречивостью. В ней уже нет скрытности и таинства; наоборот, вместо потаенности мы видим слишком выпяченное – то, что не увидеть становится сложно. Но это не эксклюзив, это его эрзац – то, что растворяется в мегамножественности информационного «эксклюзива», обрекая себя на обесцененность. Ценен тот продукт, которого мало, которого не хватает; информации много – она не ценна. Как пишет Ж. Бодрийяр, пространство радиостанций настолько перенасыщенно, что станции перекрывают друг друга и смешиваются до точки невозможности коммуникации[418]. Хотя – примеряя эту мысль к современной российской действительности – ее следует принять с оговоркой: плюральная перенасыщенность радиостанций включает в себя в основном только неполитические области, а в сфере политики радио [и другие СМИ] отличаются неплюральной перенасыщенностью.
Многие новости звучат как реклама, и, соответственно, наоборот. Чаще всего они начинаются со слов «а знаете ли вы, что…», после которых идет откровенная пропаганда того или иного товара, разворачивающая пред взором потенциального покупателя товар «во всей его красе» и описывающая его функциональные особенности в информативно-новостной форме. Вспоминается случай на одной научной конференции, где докладчик, завуалировав свой текст под научное сообщение, посвященное проблеме поиска и разработки высокотехнологичных методов медиации, рекламировал себя как медиатора в конфликтах и тем самым предлагал свои услуги. С одной стороны, это была новость, которая возвещает о том, что такое медиация и что такое конфликт в глазах современной науки. С другой же – это реклама, профессионально подделанная под научный текст, который, в свою очередь, придает ей более аргументированное обоснование.
Государственно ангажированные СМИ (а у нас почти все СМИ подконтрольны правительству) под видом просвещенческих программ популяризируют правительственные проекты, куда вкладываются огромные финансы. Так, журналисты описывают социальную важность нанотехнологий и других разработок, которые власть не обошла своим вниманием, и это описание подается в духе научного просветительства общественности, хотя на самом деле преследуется рекламная цель – объяснение, оправдание, восхваление действий правительства. При этом те научные сферы, которые не интересуют власть, если не критикуются, то и не освящаются настолько широко.
Новости выступают как продуктом политической идеологии, так и средством заработка журналистов, которые идут на все что угодно, лишь бы поднять свой рейтинг, на любые абсолютно неправдоподобные сенсации, способные привлечь внимание публики. В любом из этих двух вариантов новости имеют заказной характер и, также как зажигаются звезды, они создаются тем, кому это надо. Естественно, нельзя, проводя такое широкое негативистичное обобщение, забывать о настоящих новостях, которые отображают, отзеркаливают и отражают действительность именно такой, какая она есть. Но, к сожалению, рядом с этими – истинными – новостями сосуществуют описанные нами псевдоновости, дискурс которых сплошь мифологичен, и в меру своей мифологичности он совершенно не приемлет рационализм и научный способ мышления, хотя реципиент, воспринимающий эти «новости», представляет их как системы фактов.
Феномен заказных новостей сейчас широко распространен. Это касается в первую очередь политической области, и заказные статьи требуются во время политических агитации и предвыборных кампаний. Незаслуженно облить грязью конкурента, оклеветать неугодных – вот основная цель заказных статей и черного пиара. А поскольку содержание данных текстов далеко не всегда совпадает с действительностью, а часто идет в разрез с нею, эпитет «новости» им не может соответствовать. Скорее, лженовости. Если серьезно проанализировать агитационную методологию правящей партии «Единая Россия», нетрудно прийти к выводу о том, что почти вся она построена на откровенной лжи. То, что передается в новостях, не имеет никакого отношению к реальности. Экранированная борьба с коррупцией скрывает еще больший рост коррупции внутри властных структур, экранированная политика укрепления армии выступает ширмой, за которой прячется развал института защиты страны.
В общем, в современной – постмодернистской, информационной – реальности такие понятия, как новости, факты, монументальные истины, теряют свое первоначальное значение. Создаются всякие политически ангажированные метарассказы и метанаррации, легитимация которых ставится под вопрос. Истин много, истиной может быть все, а значит, из этого обширного «всего» практически ничто не имеет привилегий на статус абсолютной истины. Истины влияют на нашу субъективность, формируют мировоззрение и ценностные ориентации; по сути, не мир, не объективная реальность исчезают, а исчезает субъективность, утопает в океане альтернативных реальностей. [Специально] создаваемые теории скорее соотносятся не с реальностью, а с нашим восприятием реальности. Вместе с тем, они и формируют это восприятие – расколотое, расщепленное, плавающее, разбитое на части и одновременно уставшее от состояния этой расколотости, дрейфа и разбитости. Они, выражаясь языком Ж. Бодрийяра, обмениваются «одна на другую по переменному курсу, не инвестируясь более никуда, кроме зеркала их собственного письма»[419]. Они создают мир гиперреальности, удваивая реальность, утраивая ее, множа на невообразимое число и в то же время расщепляя на разные осколки, картины, содержание которых нельзя привести к единому знаменателю, собрать целостный паззл, поскольку степень их взаимной противоречивости примерно совпадает с количеством осколков, точек зрения на одно и то же явление. «…никто не знает, где начинается и где кончается реальность, а значит, и умопомрачение ее перфекционистского воспроизведения»[420].
О манипуляциях со стороны государства написано очень много. Однако для того, чтобы понять специфику манипулятивного воздействия государственных институтов на сознание народа в контексте исследуемой нами проблематики – субъект в массовой культуре в современную эпоху, - следует подробней остановиться на этой теме.
Традиционно считается, что партия – это некая консолидация людей, объединенных одной идеологией и выражающих права какой-то конкретной категории населения. Какая же идеология у «Единой России»? Ее нет. Единственное, что можно назвать их идеологией, - это стремление быть у власти, находиться рядом с кормушкой. И чьи права она выражает? Только свои. То есть она замкнута на себя. Поэтому наиболее приемлемый для нее эпитет – не партия, а корпорация. Само название «единая», возможно, специально придумано для создания иллюзорной видимости наличия идеологии, объединяющей всех под свое крыло, некоего объединения. Благодаря звучанию такого названия у обывателя создается мнение о существовании строгой идеологии, ментальная квазирепрезентация ее присутствия. Но лишь квазирепрезентация[421].
Как принято считать, пресса является четвертой властью, свободной от первых трех – исполнительной, законодательной и судебной. Но в случаях, когда первые три ветви власти сливаются в едином симбиозе, они с неизбежностью начинают оказывать серьезное влияние и на прессу. Говоря о российской современности, следует заметить, что пресса должна быть обособленной формой власти, но это долженствование не отражает реального положения дел и идет вразрез с наличествующими властными тенденциями. Мир политических масс-медиа сегодня заполняют преимущественно только необходимые господствующей элите сообщения и новости, в то время как оппозиционный дискурсивный слой СМИ отсутствует.
И.Д. Каландия пишет о том, что благодаря современным информационным средствам политические партии находятся под «информационным микроскопом», который обеспечивает их прозрачность для избирателя, что устраняет лицемерие и тайную дипломатию[422]. Такую позицию можно назвать более чем наивной, поскольку СМИ не выступают «информационным микроскопом», а в большей степени его псевдопроявлением. Как СМИ могут микроскопировать власть, если они ей принадлежат? Скорее, объектив их рентгеноскопа направлен на общественность, лишенную политической власти, на электорат, но не на саму власть. Если политические партии и находятся под микроскопом, то только те, кто не допущен к власти, кто находится в оппозиции или играет фиктивную [подкаблучную] роль, и микроскопирует их скорее не СМИ, а силовые ресурсы властвующей партии в виде прежде всего спецслужб. Так, автору лично знакома практика, в соответствии с которой спецслужбы вербует представителей какой-либо «неугодной» партии ради того, чтобы быть информированными о ее структуре и планах на ближайшее будущее. Но эти партии являются прозрачными не для избирателя, а для политической элиты, которая сама не микроскопируется никем и ничем.
Государство не столько запрещает, сколько, наоборот, стимулирует и поощряет определенные желания, но фиктивные, неестественные для человека, которого этой стимуляцией ставит в зависимость. Оно, будучи в большой степени регулятором индустрии удовольствий, придумывает и навязывает новые объекты желания и все более изощренные способы их удовлетворения. Наиболее опасный для него – тот, кто не принимает эту индустрию, не вовлекается в идеологию государственного производства желаний, предпочитая свою собственную «желающую» идеологию. Так, телевидение Бодрийяр называет уверенностью в том, что люди больше не разговаривают друг с другом[423], что указывает на отчуждающую роль телевидения. Саму же систему масс-медиа французский ученый описывает как источник слов, на который не должно быть получено никакого ответа, что говорит о монополии слова, которое не находится в процессе обмена – не может быть возвращенным. Мы это явление представляем следующим образом. Слово, исходящее от СМИ – в первую очередь несущее в себе какую-либо пропаганду, – не встречается со своим антисловом. Если этот антитезис и возникает в головах людей, получивших тезис, они не вправе высказать его таким же путем, посредством которого ими было услышано сообщение (тезис). То есть, массы могут (и должны) слушать и воспринимать, но не могут (и не должны) говорить. Слово дано тому, кто представляет власть и «работает» на ее укрепление и усиление, а, естественно, не на разрушение. Власть, как мы видим, стимулируя, не забывает также и о запретах. В современной – почти тоталитарной – России средства массовой информации находятся под каблуком государства, партия власти «Единая Россия» всячески борется с инакомыслием, упраздняя всякую возможность СМИ критиковать правительство, и диктует правила массмедийного оповещения общественности. Дискурс рекламы, новостей и почти всего, что транслируется по политически ангажированным и полностью подконтрольным официальным каналам, лоббируется ей же. Следовательно, культура консъюмеризма отчасти есть следствие государственной политики (конечно, не только ее). Уж лучше пусть народ окунется в бездумную и нерефлексивную жизнь потребления, чем будет критически мыслить, отстаивать свои конституционные права и тем самым создавать политическую напряженность, благодаря которой возникнет риск для нынешних властителей потерять свою власть. Поэтому та китч-культура, которую мы описали, вполне на руку власти, заинтересованной не в народе, а в глупой массе, в толпе. Огромную роль в насаждении этой культуры играют СМИ.
«Положительные» (для единороссов) новости освещаются, а «отрицательные» замалчиваются, корпоративщики идут на прямой обман, говоря о режиме, к которому они стремятся, интерпретируя происходящие в жизни страны события и т.д. Почти все поле официальных СМИ превратилось в одну большую манипуляционно вооруженную рекламную кампанию. Современная журналистика представляется теперь как китч, как китч-журналистика, «которая преподносит потребителю произведения, не отражающие действительность, но являющиеся конструкцией, ее умышленно искажающей»[424]. Эта деятельность совершается в угоду политикам, пытающимся, с одной стороны, скрыть «истинное» методом навязывания через СМИ своей воли, а с другой, «воспитать» массу в соответствии со своими меркантильными интересами. Достаточно вспомнить о том, как Путин, выступая по телевидению, откровенно искажал информацию относительно спасения экипажа «Курска» - он оправдывался за трагический исход операции, скрываясь за штормом, которого на самом деле не было, и приводил еще какие-то несуразные доводы, в которые просто невозможно поверить (говорил о том, что иностранцы, предложившие помощь, якобы все равно не могли успеть спасти экипаж и т.д.).
Действительно, «нарративность журналистики и не предполагает точного отражения реальности»[425]; журналистика теперь – это кривое зеркало, кривизна которого способствует массовизации общества. В.Г. Горохов также обращает наше внимание на то, что по открытым каналам транслируется или неполная или фальсифицированная информация; кроме того, по мнению автора «именно свободный доступ к информации приводит к разрушению тоталитарной системы и уничтожению основы для доминирования технократии»[426]. Но нет его, этого свободного доступа. Лишь глупый потребитель телевидения полагает, что он свободен смотреть то, что хочет, и форма реализации данной свободы – многообразие телевизионных каналов, которые он волен переключать с одного на другой, тем самым «выбирая». Однако политика СМИ, пиар и реклама обволакивает реципиента «паутиной требований, предложений, претензий, ложных и неложных потребностей»: вообще, современные средства массовой коммуникации характеризуются пошлостью языка и пошлостью вкуса.
Однако, по замечанию Ж. Делеза и Ф. Гваттари, массы весьма часто поддерживают интересы эксплуатирующего их класса не из-за своего незнания, не из-за того, что они обмануты, а ими движет желание. «Желание есть везде, где что-то течет и переливается, увлекая заинтересованных субъектов, как, впрочем, и субъектов пьяных или спящих, к смертельным жерлам»[427]. Продолжать эту фразу, говоря о том, как наши правители увлекают «заинтересованных субъектов», формируют у них эту заинтересованность, не представляется необходимым. Стоит только добавить, что иногда массы сами желают фашизма, убегая от ответственности за себя, свою жизнь и свой выбор…, а вместе с тем и от свободы. В нашем же случае имеют значение оба этих фактора – лживость СМИ и стремление избежать ответственности; в какой-то степени они наслаиваются один на другой, создавая тем самым некий синтез.
Следует отметить еще одну игру между властью и СМИ. Ни для кого не секрет, что представители власти обязаны выступать на телевидении, по радио, их выступления должны освещаться на страницах газет. И эти выступления далеко не всегда должны носить монологический характер. Зачастую требуется выполнения формата «вопрос-ответ», когда журналисты задают вопросы (иногда очень провокационные), а партийцы на них отвечают, и от этих ответов часто зависит карьера политика, чистота его образа в глазах народа. Однако в нашем случае партия умело обезопасила себя от возможностей потерять свое лицо, диктуя журналистам правила. Теперь от «вопросов-ответов» зависит не карьера политика (отвечающего), а карьера журналиста (спрашивающего); «выскочек» не терпят, им затыкают рот кляпом цензуры, играющей по правилам двойных стандартов. Это напоминает университетский семинар, перед которым докладчик просит своих одногруппников задать ему те вопросы, ответы на которые он отлично знает; сразу же убиваются два зайца – и видимость создается, и риска никакого.
Когда власть отвечает на вопросы, она перестает быть самой собой и становится подвластной (чего наша современная власть допустить никак не может); но в то же время игнорировать вопросы она не может. Значит, следует одновременно свести риск к минимуму и «замылить глаза» зрителям. Теперь журналисты не могут спросить все что угодно, теперь характер вопросов жестко детерминирован самими политиками, и вся ситуация дебатов лишает се мероприятия какой бы то ни было объективности. Игра, да и только. Таким образом, мы никак не можем назвать прессу «четвертой властью» (или какой бы то ни было ее разновидностью); теперь пресса – это служанка государственной власти и не более того. Современные российские СМИ – это неформальный политический институт, «работающий» на корпорацию, монополизировавшую власть. И если раньше СМИ можно было назвать оружием народа против власти, то сейчас она – оружие власти против народа. Путиновидение, путиновизор… - основной метод инженеринга согласия и ментального загрязнения общества. Пресса – это мощное оружие, ибо одного пера хватит для того, чтобы заговорили миллионы языков. Но главное, чей палец находится на спусковом крючке. «Какое бы давление со стороны власти не испытывала журналистика в конкретной политической системе, - пишет В.А. Евдокимов, - она, как светолюбивое растение, пробивается сквозь каменистую почву ограничений[428]». Но едва ли это так. Сквозь каменистую почву ограничений что-то и пытается пробиться, какая-то малая, незначительная часть тела журналистики, но эти ограничения настолько сильны, что барьер преодолеть становится практически невозможно. И хотя В.А. Евдокимов пишет о том, что журналистика в некоторых случаях должна быть субъектом власти, а не посредником, отметим факт ее посредничества, а не субъектности, что говорит об отличии должного от существующего.
Вспоминается случай, когда во время выступления Медведева один человек из зала выкрикнул в адрес президента обвинение в нарушении Конституции. Реакция последовала незамедлительно; смельчака вывели из зала, закрывая ему рот рукой. Архетипический символ – рот, говорящий правду, - враг нынешней власти, и поэтому его надо затыкать, кабы что нечаянно не прорвалось. А пока его затыкают, Конституция тихонько плачет где-то в темном запыленном уголке сегодняшнего российского бытия. У нас, как у человека, получающего водительские права, но не имеющего автомобиль, есть конституционные права, но они нигде не реализуются. Права имеем, но не можем…
Коммуникационные системы перестали быть источником информации о настоящей реальности, они осуществляют ее симуляцию. И данная симуляция затрагивает все области человеческого бытия, которые хоть как-то связаны с политикой (хотя симуляция проникает также и во внеполитический дискурс) и изменение содержания которых хотя бы в минимальной степени может изменить политическую ситуацию – то есть, почти все существующие области знания и деятельности: история, идеология, смысл, культура, наука и т.д. Таким образом, политически ангажированные масс-медиа создают огромный пласт гиперреальности, внутри которого от реального остается лишь малая часть.
Еще один аспект деятельности политиков, помимо новостного элемента СМИ, - это огромное засилье развлекательных телешоу, смысл существования которых заключается в погружении народа в поле развлечений, в матрицу, находясь внутри которой, люди перестают задумываться о делах насущных, по-настоящему важных и серьезных. Им уже не нужна истина вещей, теперь для них главное – это состояние счастья, получаемое от просмотра низкопробных телешоу и глупых юмористических телепередач, юмор которых весьма далек от интеллектуализма. Весь этот китч парализует протестную волю народа. Человеку хочется быть счастливым, так пусть он таким и будет; отвлечется от гнетущей реальности, погрузится в чудесный мир, созданный СМИ, и обретет счастье. Именно этого и добивается власть – политической импотенции масс, их пассивности в делах управления страной.
Г.В. Березин говорит о том, что в формировании политических ориентаций важную роль играет телевидение, которое использует недемократические формы рекламы, оказывающей политико-эмоциональное давление на реципиента. Автор совершенно справедливо приписывает современной журналистской деятельности стремление к манипулированию общественным мнением, а само телевидение называет действующим элементом политической коммуникации, лишающим себя своей главной функции – постижения истины[429]. Короче говоря, современное телевидение – еще одно (и весьма значимое!) средство власти. «Событие имеет смысл только тогда, когда о нем сообщили СМИ. Если же такого сообщения не было, то можно считать, что не было и самого события»[430]. Да, для массового сознания событие состоялось только тогда, когда о нем упомянули в официальных источниках; отсюда и вера во всех, кто владеет информацией – вера в их чистые помыслы и непорочные планы. Недаром Г.Г. Почепцов также говорит о невозможности массового сознания подвергать проверке каждое получаемое сообщение. Массе даже в голову не приходит такая идея.
Хотя телевидение, равно как и все остальные средства массовой информации, - далеко не единственное средство «воспитания» народа, конституирование его соответствующим потребностям государства. Таких средств может быть много. В структурализме и постструктурализме под термином «аппарат власти» понимается два значения: 1) репрессивный аппарат государства, насилием добивающийся своей цели, 2) идеологический аппарат государства (церковь, семья, система образования, масс-медиа, искусство и т.д.), стремящийся достигнуть согласия масс. И между этими двумя видами практически нет никакой разницы в телеологическом смысле – они руководствуются единой целью[431]. Правда, задачей нашего исследования не является рассмотрение взаимосвязи между деятельностью Единой России, с одной стороны, и пропагандой церкви, образовательной системы, искусства и т.д. – с другой. Можно лишь упомянуть о такой взаимосвязи, обращая внимание, например, на единоросскую пропаганду в мире искусства (или псевдоискусства): многочисленные «литературные» произведения о Путине, а также хвалебные (и бездарные в музыкальном смысле) песни в отношении Владимира Владимировича («Такого, как Путин» группы Поющие Вместе или весь репертуар группы Любэ, который семантически не выражает какое-либо отношения к единороссам, но звучит на всех мероприятиях, устраиваемых корпорацией).
О факте, говорящем, что мнение большинства – еще не показатель истинности, пишет А. Маслоу. Ученый говорит о самоактуализированной личности как идеале, и противопоставляет ее огромному количеству обывателей. Ссылаясь на результаты исследований, он приводит очень маленькое число таких людей из всего населения Америки. Многие люди, по его мнению, формируют свои суждения, опираясь не на свои собственные предпочтения и вкусы, а на те, что навязываются СМИ. А в нашем, современном российском случае СМИ, как мы уже отмечали, – это средства, позволяющие политикам зомбировать народ: ведь ни для кого не секрет, что большинство теле и радиоканалов и газет существуют только за счет того, что всячески пиарят «элиту», и если они перестанут это делать или, что еще лучше, начнут публиковать критические замечания в адрес власть имущих, они просто прекратят свое существование. СМИ находятся под каблуком «Единой России» и выступают средством не столько массовой информации, сколько тиражирования «положительных сторон» «партии». Обратите внимание: практически нигде в официальных источниках вы не найдете критических упоминаний в адрес единороссов. Во многих городах проходят пикеты под лозунгом «против», но ни по телевидению, ни по радио, ни в газетах их не освящают. Мало того, на эти пикеты не просто не обращают внимания, а их разгоняют аки дворовых собак. Вот только в СМИ о таких прецедентах не говорят. А событие, которое не было освещено в прессе, событием не является. О нем почти никто не знает, ему не дали огласку, его нет. Есть только те события, которые выгодны властям. Так что четвертая власть под названием «пресса» работает на единство первых трех властей, которые сливаются в один флакон этатизма. Все это знаменует конец журналистики.
Правовое общество со свободной независимой прессой! Журналисты говорят только об акциях, проводимых самой «Единой Россией», но не об акциях, проводимых против нее. Они просто боятся: освещение этих мероприятий может действительно погубить их карьеру и послужить поводом для увольнения с работы. Об оппозиционных акциях можно найти информацию только на некоторых интернетовских сайтах. Конечно, еще остались непродажные СМИ, но их настолько мало, что на общем фоне их мизерное количество можно вообще не брать во внимание. Какой смысл смотреть телевизор, если там не освещают новости, а их делают, создают? Создают «псевдособытия». Телевизионное (и не только!) информационное поле – это пространство псевдоинформации, это источник зомбирования. Единственное средство ознакомления с действительными новостями и их аналитическим рассмотрением – это Интернет, который полностью закрыть нельзя. Конечно, многие «неугодные» сайты закрываются, но в целом Интернет действует как огромная разрастающаяся в бесконечность ризома, неподвластная никакому контролю. И на некоторых сайтах печатаются очень хорошие новостные или аналитические статьи – Виктора Шендеровича, Юлии Латыниной и т.д. Но, к сожалению, эти сайты имеют очень маленькое число читателей, всего пара процентов населения, – широкая реклама оппозиции в наше время невозможна. Люди в своем большинстве предпочитают черпать информацию из более официальных и привычных источников – телевидение, радио, газеты – и не задумываются об однобокости этой информации.
Конечно, нельзя сказать, что мы видим в Интернете возможность полного ренессанса демократических ценностей, хотя есть надежда на хотя бы частичную информатизацию общества. Интернет грязен, в нем, также как и во всех официальных СМИ, полно псевдоновостей, мифологизмов, информационного мусора, обильно смоченного порнографией. Но тенденция загрязнения охватывает любые просветительские каналы, так как заинтересованные в промывании мозгов всегда находят эти каналы для службы своим целям. И таким образом просветительские функции сменяются своими дисфункциональными особенностями. Однако дух просвещения так или иначе не вымещается полностью, а остается соседствовать со своими врагами внутри глобальной сети. И наша надежда зиждется именно на той части сетевого пространства, где этот дух локализован. Поэтому, несмотря на уверения Барда и Зондерквиста в ошибочности идеи демократической спасительности Интернета, мы склонны рассматривать сеть пусть не как панацею и спасителя информации и знания, но как возможное средоточие их содержания, обеспеченное доступностью их постижения для каждого. Будет очень печально, если Интернет постигнет участь цензурирования, если его – как пессимистично возвещают Бард и Зондерквист – разделят на два уровня, нижний из которых будет специально создан для потребителей, а высший отличится своей недоступностью обычным смертным.
Кроме того, у Интернета есть еще одно преимущество по сравнению с другими СМИ – это наличие обратной связи. Если газеты, радио и телевидение – примеры односторонней коммуникации, то сеть (не вся, конечно, а некоторые сайты) предполагает диалог, возможность читателю выразить свое мнение о каком-либо вопросе, подискутировать с автором. То есть, в сети читатель сам может стать автором, оставляя свой комментарий или публикуя ответную статью на уже опубликованный текст. Такой свободный доступ можно конституировать как одно из средств борьбы против информационной тирании.
Согласно принятой в 2000 году Доктрине информационной безопасности, на первое место среди национальных интересов России в информационной сфере ставится соблюдение конституционных прав человека и гражданина на получение информации и использование ее в своих интересах. Е.Н. Касторнова в своей статье оптимистично замечает, что осознанная на уровне государства необходимость такого совершенствования информационной сферы приведет к прозрачности политики в целом и создаст предпосылки для формирования диалоговой культуры во взаимоотношениях власти и общества. И сейчас правительством принимаются законы, направленность которых – достижение информационной открытости[432]. Кроме как наивностью, по-другому такой взгляд на вещи назвать нельзя. Принятый закон – еще не выполненный закон. Неважно, какие законы принимают, а важно, какие выполняют. Власти не хотят прозрачности, для них эти новые информационные технологии скорее как ком в горле, чем нечто позитивное и требующее усовершенствования и продвижения. Говорится одно, а делается совершенно другое, чего, к сожалению, не замечают некоторые авторы. Например, Е.С. Михайлова, апеллируя к новостным лентам и единоросскому Уставу, убеждает нас в том, что между партиями, а также между партиями и группами интересов, существуют демократические связи, что на государственном уровне стимулируется выражение гражданами их политической воли, что группы интересов имеют шанс быть услышанными органами власти, что гражданские настроения и требования учитываются последними[433]. Ссылаться на новостные ленты и уж тем более на Устав верхушки – не самый лучший и убедительный способ доказывать истину. Нет партий с плохими уставами и программами, но существует много партий, которые просто их не выполняют. Ссылаться поэтому необходимо в первую очередь на личный и общественный опыт, не на то, что пишут в продажных СМИ, а на то, что происходит в реальности, которая уж совсем не демонстрирует нам положения, прописанные в сомнительной прессе. Нынешние новости в своем преимуществе – не только не авторитетный, а вообще последний источник из тех, каким можно верить. Поэтому значительная часть текстов (статей типа статьи Касторновой или Михайловой) представляют из себя малозначительную ценность, так как содержат в себе вымысел, на которой зиждется практически вся политика «Единой России». Некоторые из них даже пытаются претендовать на научный статус, так как изложены соответствующим языком и опубликованы в научных журналах. Целью науки является истина, а целью навязываемых идеологий – эффективность. Поэтому подобные «исследования» целесообразно отнести ко второму. Возникает предположение – или статьи написаны людьми, кто до конца не разобрался в ситуации и верит любому печатному слову, или же просто эти статьи заказные. Это не научные статьи, в которых используется анализ новостей, а это сами «новости», которые принимают облик научного материала. Такие тексты, напечатанные в уважающих себя научных журналах, погружаясь в нелегитимные языковые игры, дискредитируют саму науку как таковую, выводя научный дискурс в рекламный, выхолащивая из него всякую объективность и стирая демаркационную линию между наукой и желтой прессой.
Факт ангажированности СМИ приводит к смерти журналистики в нашей стране. Если информация мешает стабильности власти и не соответствует политической линии, она не допускается к обнародованию. Вместо объективной и свободной прессы существует нечто, что прессой назвать никак нельзя: это нечто, данный институт занимается не освещением действительности, а созданием внутриличностных псевдоинформационных инъекций, медиа-инъекций.
В общем, оппозицию давят, давят со страшной силой, и для этого «святого» дела любые средства хороши. Сейчас единороссы стали за счет серости масс настолько сильной корпорацией, что могут запросто искоренить всю оппозицию и достичь полной однопартийности. Но они этого не делают. Они все-таки заинтересованы в том, чтобы оппозиционные партии существовали, но существовали на слишком низком уровне своего развития, на уровне тараканов. И как только численность этих партий начинает расти, как только их рейтинг становится выше, единороссы тут как тут. Они сразу понижают рейтинг оппозиции, но, надо заметить, не уничтожают ее полностью. Почему? Потому что если они искоренят всю оппозицию и тем самым добьются монопартийной политической системы, реакция народа может стать гибельной для самой «Единой России». Конечно, русский народ терпелив, но вряд ли он снова смирится с однопартийностью – ведь это путь к новому тоталитаризму. Поэтому единороссы создают видимость оппозиции как некой альтернативы: «вы существуйте, - говорят они, - но ровно настолько, чтобы люди вас видели, но не настолько, чтобы представлять для нас угрозу». Вот и вся хитрость. Оппозиция, быть может, не просто сохраняется, а специально создается одними и теми же людьми в одном и том же кабинете для отвода глаз, но на деле она не представляет из себя ничего серьезного. Собственно, слово «оппозиция» здесь уместно лишь как слово, взятое в кавычки. Как пишут Бард и Зондерквист, наличие видимости противоречий в государственном лагере необходимо для сокрытия того факта, что все эти группировки внутри власти на самом деле сотрудничают друг с другом ради предотвращения настоящей оппозиции. Поэтому такие названия, как консерваторы, либералы, социалисты и прочие «исты» – в основном являются приверженцами одной и той же властной структуры. А здравые нарушители порядка привлекаются правящим классом предложениями выгодных позиций поближе к кормушке[434]. И если авторы описывали таким образом систему феодализма, рассматривая российскую современность, мы находим в ней эти же явления. Все так же потенциальные нарушители санкционированного сверху порядка вербуются или давятся. И не особенно важно, какой инструментарий идет в ход – вербовка или давление. Главное, что с ними работают во благо укрепления государства, а не во благо народа. Многопартийность, свобода слова – это лучшее для нормальных граждан и худшее для единороссов.
«Трудно сказать, осознает ли президент, что то единственное, что могло защитить его и страну, единственное, что придает жизни стабильность – реальная многопартийность, реальное разделение властей и реальная свобода слова, — он отменил собственными руками. Хотя именно эти механизмы хоть и мучительно, но включают народ в созидание и делают людей гражданами. А граждане принимают на себя часть ответственности за жизнь страны. Но, к сожалению, президент избрал другой путь, и народ радостно снял с себя ответственность за все решения[435]». Мы теперь не граждане. Мы вообще никто и звать нас никак.
Выборность превратилась в феномен «выбор без выбора». Когда есть в наличии несколько партий, создается видимость выборности, а на самом деле… А на самом деле одна из этих партий допускает существование других только для вида, для якобы присутствия оппозиции. Это кажущееся многообразие по сути является единообразием, которое создает некоторый выбор, но недостаточно широкий. Мы способны выбирать из брендов А, В, С, но не более того, так бренд D находится под строжайшим табу. Сама же постановка этого выбора – неотъемлемая особенность современного общества, неизбежность, у которой отсутствует альтернатива. У выбора отсутствует альтернатива – парадоксальная, но вместе с тем наполненная особым смыслом фраза. Как пишет Ж. Бодрийяр, мы переживаем выбор как свободу и не замечаем, что он нам навязывается, а посредством него все общество навязывает нам свою власть; фактом своего выбора мы связываем свою судьбу с экономическим строем в целом[436]. Перефразируя французского мыслителя, скажем так: мы переживаем выбор как свободу и не замечаем, что он нам навязывается, а посредством него правительство навязывает нам свою власть; фактом своего выбора мы связываем свою судьбу с политическим строем в целом. Выбор – не порок, но и не является предосудительным недостаточность свободы выбирать. Предосудительно полное отсутствие таковой свободы. Предосудительно появление псевдовыбора, который мы наблюдаем на примере многих политических партий.
Согласно Ницше, любой политической партии нужны в первую очередь враги, так как в противостоянии с ними она становится необходимой[437]. Я бы сказал, в противостоянии с ними, увеличивая свою необходимость, она находит друзей среди простого люда, становящегося ее сторонником. Но важно отметить – победитель не всегда достоин поддержки! А «враги» у «Единой России» есть – это те партии, которые считаются оппозицией и которые единороссы активно пытаются сохранить.
Процесс абсолютизации и тотализации набирает ход. Что нас ждет дальше? Трудно подумать. Преследования? Допросы? Заключения? Но почему же дальше? Ведь это уже имеет место. Представителей оппозиции допрашивают, преследуют, им угрожают, некоторых сажают (не сфабриковано ли дело против Ходорковского, которого посадили после его решения заняться государственными вопросами?), а некоторых и убивают (не возникает особых сомнений относительно убийств известных журналистов А. Политковской и А. Литвиненко). Путин с самого начала своего президенства разворачивает войну против олигархов, скрываясь за лозунгом борьбы с коррупцией. То есть, один олигарх душит других не потому, что они разворовывают страну, а просто потому, что являются его оппонентами. А вместе с тем война идет и против свободной прессы. Кто выходит из специально построенного барака, внутрь которого почти не проникает свет, того – этих «врагов народа» - бьют идеологически выверенными камнями. В общем, власть расписывается в автократизме и при этом самым лицемерным образом пытается избежать ответственности, замалчивая свои деяния и запрещая говорить о них вслух. Запрещая не только говорить, но и знать о них. «… невыгодные интерпретации деятельности как региональных, так и федеральных элит могут практически не иметь информационной поддержки»[438]. Это в лучшем случае они не поддерживаются информационно, а в худшем к сожалению, имеющем место] как невыгодные для власти интерпретации ее деяний, так митинги и пикеты, посвященные проблемам коррупции, милицейского произвола и т.д., не только не освящаются в СМИ, но и разгоняются посредством силовых акции с последующим наложением табу на их освещение в прессе.
В системе, где средства массовой информации выполняют скорее не информационные, а пропагандистские функции, ни о какой демократии и говорить нельзя. Можно говорить только об авторитаризме, который боится правды, который с помощью пропаганды и узурпации масс-медиа пытается скрыть свое истинное лицо, свои настоящие цели и ценности. Можно говорить о смерти свободы печати и свободы доступа к информации [в первую очередь информации о действиях правительства]. Наконец, можно говорить о смерти журналистики…
3. Специфика влияния рекламы на субъекта (китч-аспект)
Мода и реклама – явления, давно известные человечеству. Они существовали всегда, на разных этапах развития общества, просто раньше, несмотря на их существование внутри культурных традиций, им практически не уделяли никакого внимания. Однако само отсутствие понятий «мода» и «реклама» внутри научного языка совсем не указывало на отсутствие таковых тенденций внутри человеческой культуры. В последнее время рекламе как виду профессиональной деятельности придается огромное значение; например, в университетах открываются такие специальности, как реклама и PR.
Справедливо может возникнуть вопрос: а как вообще связаны между собой эти понятия и массовая культура? Ведь реклама, например, термин скорее психологический (вспомним такую отрасль, как психология рекламы), а не философско-культурологический. Однако Н.В. Филичева, повествуя о художественном стиле Арт Деко, говорит о его влиянии на массовую культуру, а именно на дизайн, рекламу, моду и архитектуру[439]. То есть, исследовательница включает моду и рекламу внутрь массовой культуры как ее компоненты. Г. Лебон напрямую связывал моду с поведением толпы, которое отличается бессознательностью и заразительностью; мода скорее руководствуется не логическими аргументами, а образцами[440]. А.В. Аврамов вообще называет рекламу институтом массовой культуры[441], хотя более целесообразно таковым было бы назвать СМК, а рекламу – его отдельным элементом. Л.Е. Трушина именует рекламу необходимым компонентом массовой культуры; реклама вобрала в себя мифологичность масскультурных сюжетов: фетишизм (чудесные свойства вещей), анимизм, тотемизм[442]. По замечанию В. Шестакова, реклама и массовая культура постоянно обращаются друг к другу за помощью; реклама использует средства масскульта – популярные песенки, мифологические образы мультфильмов и комиксов, а массовая культура прибегает к механизмам рекламы – связь с массовым потребителем, повторяемость, грубоватость, апелляция к мнимым потребностям, связь с законами рынка[443]. В общем, мы видим правомерность помещения моды и рекламы в контекст массы и массовой культуры и изучения их внутри данных явлений. Хотя более правомерно их рассматривать не в широком контексте всей массовой культуры, а в более узком – китч-контексте. Здесь мы упомянули лишь малую часть исследователей, которые рассматривают проблематику массовой культуры через призму рекламы и моды. На самом деле данная тема достаточно широко развита в научных трудах.
Человек всегда ищет свою принадлежность, пускается в поиски идентификации себя с какой-то социальной группой, референтной для него. Привычка, следование образцу и подражание – это основа самоопределения, которая обеспечивает ритуальность культуры и механизмы ее развития и воспроизводства[444]. Мода способствует сохранению культурной традиции, символизирует социальный статус, направляет поведение и устанавливает границы дозволенного и желаемого, выступает средством достижения общественного признания. А.В. Конева отмечает сверхиндивидуальную сущность моды: по нашему мнению, эту сверхиндивидуальность можно поставить в один ряд с политикой (особенно авторитарной), рекламой и т.д. – со всем, что благодаря своей возвышенности над индивидуальностью человека лишает последнего свободы выбора, волепроявления и других субъектных качеств.
«Известно, например, что потребности людей в одежде в холодных и жарких странах весьма различны, однако реклама навязывает нашим модницам неподходящие для нашего климата потребности, за что модницы расплачиваются здоровьем»[445]. Эта фраза выражает один из самых простых и банальных примеров, который, однако, вполне свойственен поведению современных модниц. Данный пример указывает не только на манипуляционный характер моды и рекламы, но и на негативность их воздействия на субъекта, который готов пожертвовать самым ценным – своим здоровьем – ради того, чтобы выглядеть красиво и сексуально привлекательно. Целесообразно привести еще один характерный пример, дополняющий предыдущий. Современный идеал женской красоты – 90-60-90 – далеко не всегда имел доминирующий статус в восприятии женщины. Раньше, наоборот, особой популярностью среди мужского народонаселения пользовалось тучное женское тело. Сейчас же представительницы прекрасного пола не жалеют ни сил ни здоровья ради достижения «идеальной» фигуры. Воистину, аскетизм, санкционированный модой и рекламой, и не просто санкционированный, а возведенный в культ. Однако минусы обладания таким телом говорят сами за себя. Похудение – это то же самое, что и истощение, а идеализированные узкие бедра и талия – проявления болезненного состояния тела. Такое истощение запрещает женщине выполнять свое природное предназначение – вынашивание ребенка. Поэтому следование современным эталонам женской привлекательности, созданным не природой, а цивилизацией, ведет к возрастанию риска. Автор этих строк с иронией заметит, что он вполне разделяет привлекательность существующего в наши дни эталона женской красоты, выраженного математически как 90-60-90, и ценит в девушках соответствие ему (конечно, ценит не только это). Однако, как говорится, пристрастиям не прикажешь (хотя, может быть, мужское видение женского идеала также исходит не из личных чувств и пристрастий, а из навязанных извне стереотипов), которыми управляет совсем не логика и здравый смысл. Конституирование женщиной самой себя по параметрам неудобной и неподходящей для времени года одежды, вредного для здоровья состояния тела и ужаса перед целлюлитом – один из самых показательных примеров того, как реклама и мода влияют на сознание определенной группы населения, создают не только некий эталон, но и определяют поведение, приводящее к его достижению путем огромных потерь для себя и своего здоровья. Вообще, многие исследователи рассматривают рекламу в первую очередь как средство насилия над сознанием[446]. Обращаясь к приведенным примерам, скажем, что не только над сознанием, но и над телом.
Реклама представляет товары и услуги в качестве стандарта потребления, различными (в том числе манипуляционными) средствами пытаясь приобщить массового человека к данным стандартам, которые зачастую рассчитаны на узкую элитарную прослойку. Именно поэтому она именуется фактором социальной напряженности[447]. А что же такое приобщение к стандартам, как не производство желания? Наличие рекламы и наличие потенциального потребителя, воспринимающего рекламное сообщение, рождают желание. Поэтому вполне правомерно, вслед за В.М. Литвинским[448], называть рекламу совокупностью мероприятий, направленных на производство желания; она обращается к бессознательному, к истокам желания, и активизирует потенциал воображаемого. Рекламный знак, нацеленный на отсутствие реальной вещи, конституирует желание ее приобрести; его главная функция – указать не только на красоту, полезность и необходимость вещи, но и на ее отсутствие у потенциального покупателя в данный момент.
Рекламу А.А. Никонова называет феноменом массовой культуры, который отражает главные тенденции ее развития. Обращая внимание на рекламу широкого спектра образования, она именует ее действие магией слов, а сам этот спектр связывает с иллюзией не всеобщей грамотности, а всеобщей интеллектуализации. Доступ к информации затрагивает не глубинный процесс осознания мира и самопознания индивида, а выступает лишь приспособительным рефлексом. Реклама же – одна из форм получения знания. Реклама – это форма терроризма, оказывающая гипнотическое воздействие посредством усыпления сознания реципиента и задающая стиль жизни путем формирования ценностных ориентаций и спекулируя на научных изысканиях. Создаваемый и множимый рекламой социальный стереотип становится образцом духовного развития, культурным фактором и когнитивной стратегией[449]. Согласно нашей позиции, которая не в полной мере согласуется с мнением А.А. Никоновой, формой получения знания может являться так называемая социальная реклама, а не реклама в целом. И не только формой получения знания, но и средством формирования человекосозидающих ценностей. Темы заботы о близких и себе, здорового образа жизни, общественного благополучия, любви к своей родине и т.д. открывают собственно человеческое измерение, так как не связаны с личной пользой и утилитарным практическим интересом. Но поскольку в нашей стране эта сфера не является особо развитой, не притягивает к себе интерес со стороны государства и общественных организаций, то едва ли можно говорить о ней в массовом ключе, а значит, рассматривать как элемент массовой культуры.
Другие ученые также обвиняют рекламу в манипулировании массовым сознанием. Например, В. Терин именует рекламу высшим арбитром, задающим ориентиры, верность которым индивид должен сохранять[450]. По справедливому замечанию Н.В. Ткаченко, реклама, внедряясь во все сферы жизни общества, замещает мировоззренческие, эстетические и моральные устои идеологией массового потребления[451]. Сама же по себе эта идеология аморальна и пропитана духом коммерции, который занимает место подлинной духовности.
«И в прежние времена, и в современном мире люди могут в определенной мере, в рамках зависимости от своего кармана, влияния рекламы и личных пристрастий, выбирать предметы потребления и тем самым, в какой-то мере, и потребности»[452], - пишет Л.И. Чинакова. Как заметно из этой цитаты, в перечислении факторов выбора человеком каких-либо товаров и услуг реклама ставится в один ряд с материальным состоянием и личными пристрастиями. Порой она – равно как и мода – эти пристрастия формирует, выступая уже родовым понятием по отношению к личным интересам и пристрастиям. Но, естественно, не стоит настолько демонизировать рекламу, чтобы заходить так далеко в своих умозрительных заключениях, в результате которых реклама займет лидирующее положение в системе детерминант воздействия на человеческий выбор, поскольку умалять последний не представляется объективным поступком. Как говорится, все зависит от ситуации и конкретного человека. И, соответственно, любые обобщения, генерализации «на все общество в целом» терпят крах; будь то обобщение, связанное с абсолютизацией силы рекламного воздействия, или же оно будет зиждиться, наоборот, на ее минимализации. Однако стоит согласиться с мнением о том, что реклама действительно оказывает воздействие на сознание как отдельного реципиента, так и масс в целом, сила которого определяется разными факторами: уровнем развития субъектных качеств объекта, на которого направлено воздействие, изощренностью рекламного сообщения, благодаря которому последнее способно «обходить» сознание и «проникать» в бессознательное, спецификой конкретной ситуации (окружения), в которую вовлечен реципиент, и т.д.
Рекламное сообщение должно быть предельно ярким, выразительным и вместе с тем простым, чтобы быть доступным максимально широкому кругу. Само же означаемое рекламного текста – это свойства предлагаемого вниманию потребителей продукта[453]. Именно эти простота и яркость рекламного сообщения обеспечивают его доступность для сознания, а потому реклама ориентируется не на какую-то отдельную и узкую прослойку общества, а имеет своим «метаклиентом» весь социум в целом.
Л.Е. Трушина отмечает, что реклама не просто информирует о товарах и услугах, а как автономная область, находящаяся внутри художественной культуры, имеет собственные эстетические, нравственные и экономические принципы и нормы деятельности. Реклама привлекает архетипы, связанные с праздником, с карнавалом, со всем тем, что отвлекает человека от забот повседневности и уводит в иллюзорным счастливый мир – именно поэтому она сильно эротизирована, и эта эротизация возбуждает в реципиенте желание[454]. Можно сказать, что желания и потребности, на возбуждение которых ориентирована реклама, в своем большинстве находятся на нижних уровнях иерархической пирамиды А. Маслоу, - это преимущественно бездуховные желания, связанные с удовлетворением низменных потребностей. То есть, реклама апеллирует не к духовному, а, наоборот, к низменному, что позволяет ее отнести к китч-культуре и обвинить в разрушительном воздействии на субъектность. Спорным является тезис о том, что реклама имеет свои принципы эстетики и нравственности; скорее, она, наоборот, существует на основе их отсутствия. К тому же если реклама ориентирована на банальность развлечений, то рядом с ней не находится места для мыслительной деятельности субъекта, для проявления и реализации своих интеллектуальных потенций. Дистанцируясь от реальности, индивид погружается в мир бездумных блокбастеров и компьютерных игр, тем самым отвлекая себя не только от житейских проблем, но и от всяческой мыследеятельности.
Мифологичность рекламы заключается в том, что она представляет предметы в гиперболизированном виде. Причем гиперболизации подвергается не сам рекламируемый предмет, а его основное качество, главная особенность. Если это стиральный порошок, то он должен отстирывать абсолютно все и при любой температуре воды. Если это зубная паста, то, как минимум, она отбеливает зубы до кристального блеска (и на экране появляется лучезарная улыбка, далекая от реальности, но представляющая собой красивый спецэффект, что и есть гипербола), а как максимум, ее использование на сто процентов уберегает как от кариеса, так и от пульпита. Параллель превышения возможностей рекламируемого продукта можно провести с образами главных героев американских боевиков, где персонаж давно забытых (что опять говорит о быстрой сменяемости китчевых кумиров) Ч. Норриса, Д. Лундгрена, С. Сигала демонстрируется этаким абсолютно непогрешимым супергероем, способным на любые подвиги, жестоко расправляющимся с «плохими» парнями и в конце концов обязательно выходящим сухим из воды с кучей денег в кармане и с неписаной красавицей под мышкой. То есть, основная особенность, объединяющая предметы рекламы и образы кинобоевиков, - это непогрешимость и совершенство. Мифологичность рекламы как раз и заключена в «раздувании» этой особенности, в представлении товара как чудодейственного средства, способного излечить от всех болезней, сделать улыбку блистательно белой, одежду – идеально чистой, а реципиента – неподдельно счастливым. Весь образ рекламного ролика, вся исходящая от него аура подчеркивают то, что, купив данный товар, ваше довольство не будет знать предела. Поэтому вниманию реципиента предлагается товар в ложной форме, придающей товару свойства, которыми он не обладает. Идеальность, изысканность и яркость формируются специально, посредством гротескности, искусственности, гиперболизации, экзальтированности и фальши. Так вместо конкретного продукта продается мечта.
Счастливым человека может сделать все – от жвачки Stimorol до пылесоса Indesit, который, как известно, «прослужит долго». И если люди, связанные общим бытом, совместно пьют по утрам сок «Моя семья», они обязательно будут такими же счастливыми и беззаботными, как улыбчивые герои рекламы. А человек, стирающий одежду с помощью порошка «Tide», всегда выглядит «с иголочки», что придает его внешнему виду особую привлекательность и сексуальность. Мифология пытается создать такой образ реальности, который совпадает с желаниями, целями и ожиданиями носителей мифологического сознания, то есть реципиентов. Вместе с тем этот образ реальности должен не только совпадать с желаниями и потребностями, но и с лихвой их удовлетворять, то есть удовлетворять даже более, чем необходимо. Если чистить зубы, то до идеального блеска, если употреблять Danissimo, то так что «пусть весь мир подождет». Реклама в первую очередь интересует не качеством товара, а имиджем, который тот придает: продается не мыло, а мечта, не одеколон, а успех. Человек-потребитель должен чувствовать себя радостным, счастливым и довольствоваться своим положением, но при этом – несмотря на его довольство – он все же должен стремиться к еще большему приобретению. Таким образом, реклама производит потребителя. В эпоху потребления счастье длится недолго: избыток потребления, когда материальные потребности не просто удовлетворены, а чрезмерно удовлетворены, способен порождать несчастье.
Вообще, рекламное мифотворчество можно сравнить с архаикой, религией и прочими идеологическими конструктами, которые не укладываются в рамки объективности и рациональности. Вера в рекламную информацию, в ее истинность, - все равно что вера в Бабу Ягу, Деда Мороза, миф про ребро Адама и в прочие сказочные герои и сюжеты, которые не отличаются достоверностью. По сути, реклама обращена к сфере, локализованной между фактом и вымыслом. Реклама достаточно хитра; она не обманывает напрямую, но и истинную правду она тоже не говорит.
Вполне естественно, что в нынешнее время мифологизация проникает во многие сферы жизни людей, и рационалистическое сознание нуждается в мифотворчестве ничуть не меньше, чем собственно мифологическое, архаическое. Это определяется несовершенностью картины мира, построенной наукой как высшей формой рационализма, - многие насущные вопросы остались открытыми: смысл жизни, появление Вселенной, происхождение человека, смерть и бессмертие и т.д. Очевидно, что далеко не на все интересующие человека вопросы разум может ответить, поэтому приходится искать ответы в несколько иной – иррациональной – сфере[455]. Да и человеческий разум сам себя дискредитировал в XX веке, о чем свидетельствует «рационализм» двух мировых войн, экологическая катастрофа, существование тоталитарных государств (в том числе и современную Россию можно назвать если не тоталитарной, то авторитарной), ГУЛАГ и Освенцим. Все эти продукты больного, но утонченного разума, эти проявления высшего прагматизма и рациональности, оставили неизгладимый след на сфере рационализма, что послужило возбуждением интереса к области иррационального и даже мифологического. Причем имеет смысл упомянуть о разведении понятий «иррациональное» и «мифологичное». Так, к первому относятся такие высокоинтеллектуальные изобретения, как экзистенциализм и постмодернизм в философии, сюрреализм в живописи с его обращенностью к бессознательному. Второе же включает в себя значительно более приземленные явления, вполне доступные каждому, - все те же мода, реклама, политическое мифотворчество и прочее. Конечно, проблема вычленения принципиальных различий между областями иррационального и мифологического представляется особенно актуальной и заслуживающей внимания, но мы позволим себе не останавливаться на ней, так как ее рассмотрение не отражает задач настоящего исследования.
Если раньше религия как мифологическая система занимала особое место в жизни человека, а во времена социализма на место религии встала святая вера в пресловутое светлое будущее, то сейчас во многом религиозные (мифологические) функции выполняют предметы обожания, предлагаемые китч-культурой: так называемые звезды, интерес общественности к которым не ограничивается просто знакомством с их творчеством, но и приникает в личную жизнь этих звезд. А сами звезды выступают иконами, «святыми ликами», наделяются чуть ли не божественными свойствами. Отсюда можно вывести определение фанатизма; фанат – это не только тот, кто поклоняется своему объекту, а тот, кто забывает, что этот объект – всего лишь человек. Собственно, они стали своеобразным фетишем, про который их кумиры хотят знать все. Миф как таковой существовал всегда, но лишь приобретал разные образы – сакральность бога, вера в идеалы коммунизма, фанатизм от «Фабрики звезд» и т.д. Китч-культура – это система икон, но икон замаскированных так, что их обожатели редко осознают данную иконичность. Поэтому миф продолжает пронизывать общественное сознание и находит свое применение не только в возрождении неоархаики в искусстве, лживости правительственных обещаний, многообразии религиозных объединений, поп-фетишах, но и в специфике рекламы. Представляется, что без мифа реклама не была бы сама собой.
Благодаря рекламе стираются (за ненадобностью) внутренние качестве товара, его настоящая полезность. Реальность автомобиля – его технические качества, - уступает место мифологии автомобиля – фразам типа «с ним вы станете вездесущим, свободным и неуязвимым».
Когда человек покупает рекламируемые продукты, он приобретает не сами эти товары, а то, что ему обеспечит их приобретение – некоторую вторичную выгоду: социальный статус, имидж, отношение других людей, положительные эмоции и т.д. Можно сказать, что иногда реклама в первую очередь культивирует имидж, который служит дополнением к функциональным особенностям продукта, к его полезности. Другими словами, реклама предлагает не только конкретную марку, но и что-то более фундаментальное, «нечто, по отношению к чему стиральный порошок, жевательная резинка или автомобиль составляют лишь алиби»[456]. Вместе с тем реклама не только «продвигает» потребление, но и сама является предметом потребления. И это предмет потребления, в отличие от других, получаемый в дар и доступный для всех; если вещь нам продают, то рекламу предоставляют бесплатно[457]. Но ее бесплатность и доступность в синтезе представляют из себя уловку, приманку, следуя которой, человек приобретает определенное желание, на возбуждение которого реклама направлена.
Во многих случаях символические манипуляции со временем следует рассматривать как основу некоторых потребностей. Ж. Бодрийяр приводит следующие примеры: покупка в кредит (кредит – феномен, указывающий на потребление, которое предшествует производству) символизирует стремление опередить время, коллекционирование старинных вещей означает фиксацию и присвоение времени, своеобразную трансцендентность[458]. В своем большинстве потребитель ориентирован не на собственно рекламируемую продукцию, а на более высшую ценность – на свое место в социальном мире, на престиж, а сама продукция – это символ престижа, статуса и успешной социализации. Поэтому если мы зададим вопрос «зачем человек опережает или присваивает время посредством кредита и коллекционирования?», то ответ будет лежать в плоскости той же самой статусности и престижности. Автомобиль последней модели, дорогие костюм и телефон как вещественные опознавательные знаки в своей совокупности образуют императивный критерий статусности их обладателя. Такую направленность можно назвать экстравертированной (используя термин К.Г. Юнга), согласно которой человек наибольшее внимание уделяет не себе, а окружению, которое его каким-либо образом оценивает. Воспитываемая рекламой экстравертированность можно проследить в двух аспектах: 1) ориентированность на содержание рекламы, то есть на референтность предлагаемой ценности, продукта или идеи; 2) ориентированность на саму рекламу как институт, которому следует доверять. «Реклама как социальный институт культивирует особый, внешне ориентированный тип личности, фактически беззащитной перед ее ментальным «обстрелом»[459]. Это происходит путем создания образа этакой заботливой рекламы, ее интереса к нуждам клиентов, ее понимания потребителя и его потребностей, ее знания того, что человеку необходимо. Реклама всегда улыбается, старается создать особое впечатление, связанное с уважением, пониманием и человеколюбием. Однако за этими качествами скрывается репрессивность, сущность которой заключена не в «кнуте», а в «прянике».
Реклама рекламирует не только товар, но и потребность в нем нуждаться, желание; рекламный дискурс производителен, и неважно – стимулирует он или запрещает – все равно он рождает то, о чем говорит[460]. Ее цель – тотальное управление потреблением путем манипуляции индивидуальными желаниями и формирования единого «коллективного потребительского» бессознательного[461]. Более того, отметим мы, посредством такого искусственного формирования желания происходит настоящее выворачивание человека вовне. И потребительски ориентированному окружению становится совершенно неважно, что представляет из себя человек, какими внутренними качествами он обладает; главное, как он выглядит, во что одевается, какую музыку слушает, какую читает литературу и каким одеколоном пользуется. Это выражается лозунгом типа: «Я – ничто, имидж – все!». «Значимость человека определяется обладанием вещами, имеющими статус фетиша» (автомобиль Мерседес, жевательная резинка Орбит, стиральный порошок с микрогранулами). Вещи перестают быть просто вещами, необходимыми в хозяйстве, а обретают самостоятельную значимость, превращаются в фетиш, делая человека своим рабом»[462]. То есть, снова доказываем, что внутри большей части массовой культуры – культуры потребления – мы идентифицированы не со своей внутренней самостью, субъектностью, а с теми материальными вещами, которые имеем, которые можем себе позволить. «Приобретение товаров на рынке начинает рассматриваться индивидом как способ подключения к более высокой социальной группе, члены которой, по его мнению, ведут «достойное человека существование»; потребление тем самым как раз и получает престижный характер»[463]. Также посредством моды и рекламы индивид идентифицируется с референтной группой и обществом в целом. По мнению Г. Маркузе, эта идентификация свойственна как примитивным формам ассоциирования, так и более современному индустриальному обществу; а ее отсутствие, отказ следовать за всеми, оценивается как невроз[464]. Так что же невротично – конформизм или нонконформизм? Здесь уместна так называемая игра полюсами.
Многие психологи говорят о скрытой манипулятивности рекламы, что связано с воздействием идеологической или поведенческой программы именно на подсознание реципиента (подпороговые внушения), обходя сознание, а тем самым и сопротивление внушению. Это является еще одним аспектом негативного воздействия рекламы на субъектность, а именно на его сознательную и мировоззренческую составляющие. И это воздействие, эти внутриличностные инъекции, конституируют массмедийного субъекта, который своими качествами являет полную противоположность подлинному субъекту. Предлагаемые ценности, идеалы и нормы, тиражируемые посредством СМИ и рекламы, проникают внутрь человека и этим претендуют на вакантное место его самости, субъектности.
Г. Маркузе показал, как происходит игра с понятиями посредством рекламы и лозунгов. Реклама создает свой собственный язык, который отличен от всеобщего языка тем, что свободно сближает и отождествляет противоположные понятия. Благодаря такому языку категории свободы, патриотизма, равенства и т.п. становятся тождественны своим противоположностям. Например, антинародная партия, стремящаяся реализовывать политику авторитаризма, называет себя демократической, а сфабрикованные выборы именуются свободными. Кроме того, в языке рекламы философ находит тенденцию к отождествлению вещи со своей функцией, что проявляется в навязывании образов и препятствованию для выражения понятий (его непосредственность – преграда для понятийного мышления). Г. Маркузе называет такой функционализированный язык, навязывающий образы и препятствующий развитию понятий, языком одномерного мышления, языком тотального администрирования и контроля[465]. Таким образом, «рекламная» эквилибристика языком выступает своего рода средством продвижения рекламируемого продукта или идеи, и вместе с тем инструментом манипуляций.
В продолжении маркузеанской мысли скажем, что абсурдность рекламы заключена в жонглировании противоположностями, их соединении и тем самым создании самого невообразимого синтеза, выходящего за рамки любых приличий. На огромном стенде, находящемся возле крупной магистрали, изображены двое радостно улыбающихся спортсмена-лыжника…с сигаретами «Winston» в зубах. Спорт и курение – насколько совместимые вещи? На самом деле эффективность воздействия такой рекламы и заключена в их несовместимости. Принцип следующий: курение вредно, спорт полезен (всем известные фактуальные истины, то есть трюизмы), а соотношение «спорт + курение» рождает нечто среднее по степени вреда для здоровья. То есть, негативизм затушевывается мнимым позитивом. Таким образом, ликвидируется установка о вреде курения (наложение, якорение, интеграция полярностей, - называется по-разному). Получается определенная связка: спорт + курение = позитив или в худшем случае вместо позитива нейтралитет – ни хорошо, ни плохо; а это все-таки лучше, чем полный негатив; равно как сочетание плюса и минуса дает нейтралитет. Или другой вариант смешения противоположностей. Иванушка-дурачок сидит, как обычно, на печи и пьет… «кока-колу». Здесь наблюдается не просто безобидный синтез элемента русского фольклора с несовместимым ему американским коммерческим образом. Это абсурдное соединение уничтожает исконно русский архетип. Ни у кого ранее герой многочисленных сказок не ассоциировался с «чудодейственным» напитком под названием «кока-кола». После таких рекламных роликов в массовом сознании создаются «неправильные» ассоциации, которые уже не имеют связи с подлинным архетипическим содержанием, а это содержание теперь извращено и трансформировано на американский (в данном случае) манер и на место национальной фольклорной ценности воздвигается символ американской культуры (или бескультурья). Вообще, рекламщики любят использовать архетипы или религиозные символы, отождествляя их со свойствами товара. Вспоминается еще одна лингвистическая связка, построенная на амбивалентности: «пиво «Сокол» - во имя добра!». Абсурдность этих слов налицо; она настолько прозрачна, что не нуждается в комментариях. Пиво и добро – удивительное сочетание. Ладно еще, что не спорт и наркотики, которые рекламировали бы известные спортсмены.
Особое внимание следует придать тому факту, что сейчас реклама успешно перекочевала из своего привычного – непосредственно рекламного контекста – в дискурс искусства. Во многих известных фильмах, музыкальных произведениях мы можем заметить скрытые (насколько?) рекламные сообщения. Так, в знаменитом фильме «Ночной дозор» пропагандируется кофе «Nescafe». В некоторых сериях «Бандитского Петербурга» можно увидеть рекламу «Балтики».
Когда мы замечаем рекламные вкрапления внутри произведений искусства, то задумываемся о проблеме дифференцирования рекламы и искусства. Чего здесь больше – того или другого – и можно ли вообще создавать такой синтез? Равно как создавать синтез рекламы не только с искусством, но и… со всем. Можно даже, вслед за Ж. Бодрийяром, созерцающим искусственную красоту Америки[466], задаться вопросом: не существует ли сам этот мир только как реклама, созданная в каком-то другом мире? Интересные идеи мы находим в знаменитой работе Барда и Зондерквиста, где говорится, что в нетократическом мире будущего исчезнет принципиальная разница между рекламой и телевизионной передачей, каждая деталь будет содержать товар, сами актеры станут товаром, продающим самих себя тогда, когда они не продают другие товары, а товары станут актерами – и все это приведет к функционированию рекламы ради рекламы[467]. Ошибка авторов заключается в том, что эти тенденции станут проявлять себя не в каком-то там будущем, а они уже сейчас имеют особое вакантное место внутри мира масс-медиа. Почти все пространство городских пейзажей, урбанизированное пространство крупных мегаполисов подчинено рекламному действу, происходящему на стендах, расположенных вдоль магистралей, на вывесках домов и магазинов, на… где угодно. Реклама, циркулируя во множестве точек публичного пространства, на пикселях пространственно-временного социального интерфейса, как бы расписывается в разных местах тела мегаполиса, оставляя свои микроскопические следы, которые в своей совокупности образуют макроскопическую ткань рекламной паутины.
Конечно, мы не можем предлагать полное уничтожение рекламы, так как отчасти и на ней тоже держится экономика. Поэтому звучит неубедительно утверждение Э. Фромма о том, что как только положат конец гипнотической власти рекламы, вкусы потребителя, а не производителя, станут определять, что стоит производить, а что не стоит[468]. Естественно, во многом производитель определяет вкусы потребителя, но гипноз рекламы может быть ликвидирован путем ликвидации самой рекламы, что недопустимо и едва ли осуществимо. К тому же реклама (как и мода) – один из инструментов социализации, зеркало, отражающее и генерирующее общественные тенденции, вкусы и ценности. Но нельзя некритично относиться к вышеописанному смешению, так как следует разделять одно с другим. Пусть рекламные объявления печатаются в специальных журналах и помещаются на специальные – только этому посвященные – телевизионные каналы и интернет-сайты. Реклама должна восприниматься реципиентом добровольно, а не навязываться в виде вкраплений в интересующие его телепередачи, фильмы или песни. И, соответственно, реклама должна оставаться именно рекламой, быть тождественной самой себе, а не мимикрировать под произведения искусства, с помощью чего она ищет пути проникновения в сознание человека. Рекламный стиль мышления представляет собой клишированный и шаблонный ход мысли, где настоящей мысли по сути не остается места. Такое мышление оперирует преимущественно готовыми штампами, создает из них различные синтезы, при этом не имея возможности логически объяснить полезность того, на что он указывает, так как логика и доказательства рекламой (и рекламным стилем мышления) не предусмотрены – покупатель покупает товар не потому, что его логически убедили в ценности данного продукта, а потому, что на него в первую очередь повлиял имидж товара: красивая оболочка, размер, красочность и т.д. Таким образом, рекламный стиль мышления не является стилем мышления, а выступает скорее неким догматизмом, который выражает себя в убежденности субъекта-носителя этого стиля в том, что он «знает» нечто, но объяснить логику построений своего «знания» он не может. Носитель такого стиля имеет столь же пестрое разнообразие Я, сколько в его сознании заложено рекламных представлений. И через различные бытийно-информационные ходы (вкрапления в мир искусства и культуры) реклама, а вместе с ней и рекламный стиль мышления, рвутся к проникновению в сознание человека, что негативно сказывается впоследствии на его мыслительной и поведенческой гибкости. Поэтому возникает необходимость дистанцировать рекламу от того, что с ней не должно быть связано (напр., от искусства) и давать ей право на существование только там, где ей и место, отделяя тем самым «мух от котлет». И если вдруг у человека возникает в силу тех или иных коммерческих целей и обстоятельств потребность ознакомиться с рекламным спектром, он всегда будет знать, где его можно найти.
Тем не менее далеко не все поле рекламы мы имеем право обвинять в деструктивном воздействии на субъекта. Существует также человекосозидающая область рекламы. К примеру, рекламные ролики, в которых фигурирует внешне привлекательный и сильный молодой человек, а его красота специально подчеркивается, способны оказывать положительное влияние на субъектную активность. У реципиента после просмотра может возникнуть желание стать таким же обладателем накачанных мускулов, и это желание реализуется в активную деятельность. Такое положительное воздействие оказывали также и американские боевики, персонажи которых – накачанные супергерои, которым пытались подражать с упоением смотревшие эти фильмы подростки. В данном случае рекламу можно отнести не только к уровню китча, но и «поднять» выше. Таким же образом «работают» многие радио- и телевизионные передачи, в которых культивируются ценности здорового образа жизни, уважения к близким, любви и т.д. Только, к сожалению, духовные ценности пока не в состоянии в достаточной мере заменить бессубъектность и бездуховность современной моды, рекламы и многого содержания сообщений СМИ.
Некоторые рекламисты и пиарщики могут поспорить с нами, выдвигая тезис о том, что реклама – творческая деятельность, которая творчески развивает того, кто ей занимается. Однако, соглашаясь с такой позицией, скажем, что если она и развивает своего творца, то это развитие идет за счет описанного нами характера воздействия на огромную выборку реципиентов. Мошенника также развивает его деятельность, особенно когда в минуты «инсайта» и «творческого вдохновения» он находит новый изощренный способ одурачивания масс; все-таки сложно отказать в особом таланте господину Мавроди. К тому же, как отмечается, рождение творческой идеи – это вдохновение в искусстве, а в коммуникационной деятельности – это всего лишь технология. Творчество связано с искусством, а креатив – со сферой корпоративных коммуникаций. В искусстве красота создается ради красоты, правда ради правды, оно ориентировано на поиск высшего, идеального и прекрасного. А в креативе красота создается ради пользы, ради достижения коммерческого или имиджевого успеха[469]. Не высказывая полного соглашения с автором этих строк относительно разведения понятий творчества и креатива, признаем его правоту насчет того, что корпоративщики (рекламщики) ориентированы не на искусство ради искусства, а на искусство ради обогащения, статусного роста и т.д. И зачастую это «искусство» в качестве одной из задач ставит перед собой оболванивание людей путем красиво выдуманных слоганов и психологически выверенных образов, что граничит с безнравственностью (нравственность, как уже было сказано, выступает одним из критериев разделения уровней культуры). Конечно, в качестве возражения можно сказать, что ценность музыки уже ставшей классической группы Deep Purple или Uriah Heep нисколько не умаляется тем, что она писалась в том числе и ради достижения коммерческого успеха, а не просто «для себя». Однако коммерциализация тоже бывает разной – с обманом или без. Сегодня нужно не защищать рекламу и маркетинг, а искать защиты от них.
4. Характер влияния моды на субъектность (китч-аспект)
Китч-культура - это воплощение сознания не народа, а индустрии, коммерции. Это контркультура, это антикультура, которую можно смело противопоставлять собственно Культуре с большой буквы, поскольку она враждебна по отношению к последней. Ее продукты меняются с очень быстрой скоростью, но в данных изменениях нет качественных различий, и этот постоянный замкнутый на себе процесс никак нельзя назвать развитием, так как эти бесконечные перемены не несут в себе ничего нового; это просто мода. У нее нет истории, поскольку она не способна быть непрерывной, развивающейся, движущейся вперед (здесь мы используем фразу М. Фуко, нацеленную на развитие природы: «природа имеет историю лишь в той мере, в какой она способна быть непрерывной»[470]); у того, что всегда стоит на месте, не может быть истории. Это утверждение имеет прямое отношение к моде как к одной из тенденций преимущественно низших уровней массовой культуры.
С точки зрения Ж. Бодрийяра, через моду как циркуляцию знаков «код властно сообщает всем другим областям свою инвестицию»[471]; в моде ускользают означаемые, а ряды означающих никуда не ведут, она придавливает живое значение мертвостью знаков, она ориентирована на воспроизводство вместо производства, она актуализируется на поверхности, играет повторяемостью уже существовавших форм и с величайшей комбинаторикой фабрикует их. Это указывает на бессмысленность моды, на ее принципиально внесмысловой характер, на характерное для нее пустое чередование знаков, на ее целесообразность без цели, на уничтожение ею рациональности, - и все это заставляет человека-потребителя испытывать своеобразное удовольствие, наслаждение от призрачности. Бодрийяр убежден, что под властью моды все культуры смешиваются в тотальной симулякризованной игре. Мы с этим утверждением согласимся только в том случае, если будем усматривать в моде не внутрикультурное (в национальном или территориальном смысле) явление, а общекультурную характеристику, которая, с одной стороны, связывает многие культуры в один пучок, находит точки их сопричастности и соединимости, а с другой, - не столько обнаруживает общие точки, сколько их создает, тем самым нивелируя культурные ценности, упраздняя и приводя их к общему знаменателю, редуцируя многообразие культур к единой общекультурной основе. Но такое явление уже следует понимать не как моду, а как гипермоду. Гипермоду, которую следует рассматривать как неотъемлемую часть набирающего ход процесса глобализации.
Х. Ортега-и-Гассет пишет о том, что модное искусство недолговечно, так как живет за счет эфемерного зрителя, а классическое искусство со зрителем не считается, что является причиной трудности его понимания[472]. Указание философа на недолговечность модного искусства говорит о постоянной переменчивости последнего, а значит, и самой моды. Но эта переменчивость не выходит за пределы китча и не пытается войти в сферу более высоких уровней культуры, - в таком случае массам станет трудно осмыслить эту новую модную тенденцию, и тогда она не станет модной.
Недолговечность как основное качество лежит в основе моды в обществе потребления, то есть, это непосредственное требование к вещам. «Вещь не должна ускользать от моды и эфемерности»[473]. Серийные вещи намеренно обрекаются создателями на непрочность; они не должны быть редкими, но должны быть краткосрочными, бренными, низкокачественными. Само производство поддерживает смертность одних вещей для того, чтобы на смену им пришла жизнь других, в своей совокупности образующих новый модный писк, и так происходит циклически. Поэтому нельзя сказать, что производство стремится к смертности вещей в целом; оно устанавливает цикл смерти-возрождения, ускоренного обновления вещей, благодаря которому создается мода и утверждается ее подвижность, но и благодаря подвижности моды создается этот циклический кругооборот. Такой цикл не следует пути наделения вещи прямой функциональностью (прямая функциональность растворяется во мраке низкого качества), но гонится за функциональностью символической, которой как раз и соответствует мода. Вообще, прямая функциональность, связанное с ним высокое качество вещи и, соответственно, долгое ее использование, полностью противоречит дискурсу моды, а потому для этого дискурса приемлема только символическая функциональность. Происходит компенсация качества количеством и символической полезностью. Сейчас остается только ностальгировать по качеству джинсов, выпускаемых пятнадцать-двадцать лет назад, на смену которым пришла одежда «на один-два сезона». На основе этой практически общей тенденции ускорения времени службы (выгодной для производителей) вполне своевременно и притягательно выглядят рекламные слоганы типа: «Indesit – прослужит долго» (что выгодно для потребителей, преимущественно тех, кто не гонится за изменчивостью моды).
Мода – это «обычно непродолжительное господство определенного типа стандартизированного массового поведения, в основе которого лежит относительно быстрое и масштабное изменение внешнего (прежде всего, предметного) окружения людей … внешнее оформление внутреннего содержания общественной жизни, выражая уровень и особенности массового вкуса данного общества в данное время»[474]. Ей свойственны: релятивизм (быстрая смена форм), цикличность (периодическая обращенность к традициям прошлого), иррациональность (ее «эмоциональная» обращенность не всегда сообразуется с логикой или здравым смыслом), универсальность (мода обращена ко всем сразу и к каждому отдельно). Мода формирует вкусы, внедряет определенные ценности и образцы поведения и управляет ими. Мода – одно из средств социализации. Но можно ли эту социализацию назвать именно таковой? Скорее, здесь более уместным будет термин «нормализация» или более грубое, но весьма справедливое в этом контексте слово «массификация».
В различные тоталитарные эпохи, как нам известно, было множество разнообразных табу относительно того, что нужно изучать, чему верить и даже как одеваться. Что касается последнего, то стоит вспомнить недавнее социалистическое прошлое, когда школьники благодаря своей форме выглядели совершенно по-одинаковому (и система их обучения также отличалась догматичностью и стандартизацией). И вполне уместным представляется высмеивание этих тенденций, хорошо изображенное в фильме «Стена» группы Pink Floyd, где демонстрируется метафорическая мясорубка, в которую неуклонно падают обреченные дети, лишенные лиц и каких бы то ни было отличительных друг от друга признаков. Но можно ли систему жестких правил и ограничений, принадлежащие тому или иному «закрытому» (выражаясь языком К. Поппера) обществу назвать модой? Конечно, нет. Тем не менее мода во многом имеет ту же сущность, что и эти табу, но принимается, в отличие от них, добровольно. Если раньше люди, ратуя за демократию, хотели перешагнуть через этот нормированный пережиток, то теперь они склоняют голову перед его более современным проявлением. Если в те времена общество управлялось системой жестких правил извне, методом кнута, то сейчас оно управляется не только извне (акулы шоу-бизнеса и создатели потребительской индустрии), но и изнутри (добровольное принятие потребителем стандартизирующей идеологии), и уже методом пряника. На этом, судя по всему, отличия исчерпываются. Тоталитарному обществу мода не нужна, так как она итак существует, но навязывается по-другому и носит иное название. Мода – это тенденция, характерная для более или менее свободного, «открытого», общества. Мода – культурная тоталитаризация другими методами.
Мода обращается к широкому кругу, она апеллирует к низменным и примитивным вкусам, удовлетворяет низшие потребности. Мода – это некая стандартизация духовности, а духовность не терпит стандартизированности … в таком случае она просто перестает быть собой. Мода уничтожает человеческую уникальность, индивидуальность вкуса, она говорит «посмотри на меня и на всех нас и уважай и люби то, что мы все любим». Если девушка в году, который характеризует «высокий каблук», носит обувь на низком каблуке, то в глазах модно-ориентированной толпы она представляется не достойной уважения. Конечно, здесь мы позволили себе преувеличение, но оно не кажется излишним, так как вполне наглядно – и пусть даже гиперболизировано – характеризует сущность моды. Это апелляция к большинству, к массе, интеллектуализмом, культурным развитием и широтой вкусов не отличающейся. Сама стандартизация стала модной. Мода – это антоним индивидуального стиля, это навязываемое формирование образа жизни «быть как все». А стиль, в свою очередь, подчеркивает человеческую уникальность, уникальность его вкусов и отношений, его субъектную позицию. В психологии есть понятие индивидуального стиля деятельности, который рассматривается как целостное образование, характеризующееся индивидуальными особенностями. Внутренние условия выступают определяющей стороной стиля, обеспечивающие индивидуальное своеобразие[475]. Когда человек творчески проявляет свою индивидуальность, креативные потенции своего индивидуального стиля, он, выходя за границы дозволенного, занимает место над культурой и перестает быть ее пассивным потребителем; перерастая культуру, он сам начинает ее развивать.
Китч, дешевая масс-медийность, находится вне стиля. Они просто несовместимы и взаимоисключаемы. Мода требует конформности, а не индивидуальности, она стремится к массовости, а не уникальности. «Если сегодня все слушают Руки Вверх, то и я буду их слушать – и неважно, нравятся они мне или нет». А если завтра все забудут эту бездарную группу, но станут превозносить новых (только что появившихся) бездарей, то первые потеряют свою ценность в глазах «модной» толпы? Несмотря на такую абсурдность, это действительно так. Получается, у человека нет четкой и устойчивой системы отношений к тому, что потреблять. Такого человека, который делает то, что делают все, и говорит то, что говорят все, Х. Ортега-и-Гассет называет безличным и бесчеловечным[476].
Хотя в случае с попсой мы не можем однозначно утверждать, что она становится популярной благодаря только конформизации. Как музыкальное явление попса действительно нравится людям. Достаточно простой (и даже примитивный) мотив, насыщенный повседневными переживаниями текст (любовные муки или, наоборот, выражение восторга от любовных отношений) – все это ценности, разделяемые широкими массами. Чтобы понять и переварить содержание попсы – как музыкальное, так и текстовое – не требуется утонченность вкуса и интеллектуальное напряжение. Скорее наоборот, массы пытаются избегать этого напряжения, вследствие чего тяготеют именно к тем видам искусства – музыкального, кинематографического, литературного и т.д. – содержание которого настолько прозрачно, что легко и просто усваивается, без дополнительных психических усилий.
С.В. Борзых называет моду свойством консьюмеризма (фанатичного потребления вещественного, а не духовного), «которая быстро сменяется, заставляя человека постоянно быть в курсе событий в мире моды и обостряя его желание соответствовать ей»[477]. Единственная четкость и устойчивость, которую он проявляет – это конформное следование за толпой. А где же индивидуальность, где субъектность? Их нет. А если нет этих необходимых для зрелой личности образований, то и здоровой личности тоже нет.
Упоминание проблем, связанных с конформизмом, мы находим во многих философских работах. Конформизм – одна из основных тем, которая занимала и занимает мыслителей. Пожалуй, если эта проблема и не является центральной в великих философских произведениях, тем не менее в той или иной степени она затрагивается многими известными философами. «В использовании публичных транспортных средств, в применении публичной информационной системы (газета) всякий другой подобен другому, - пишет М. Хайдеггер. – Это бытие-с-другими полностью растворяет свое присутствие всякий раз в способе бытия «других», а именно так, что другие в их различительности и выраженности еще больше исчезают»[478]. Философ обозначает середину (публичность) как экзистенциальную черту людей; они держатся усредненности во всем, а она, в свою очередь, следит за всяким исключением, подавляет всякое превосходство, всякую оригинальность.
Э. Фромм разделяет присущую каждому человеку потребность в идентичности на два полюса: индивидуальность и стадный конформизм. По его убеждению, первое – это нормальное развитие человеческой идентичности, а второе - иллюзорное[479]. Однако существует мнение, согласно которому конформность – нормальное для человеческой психики явление, а конформное поведение – здоровое и естественное, в отличие от нонкорформизма[480]. Конечно, любой человек проявляет конформность к какому-то элементу окружения: к друзьям, к трудовому коллективу, к семье, к государственной политике, - и это нормально. Абсолютный нонконформизм присущ только психически нездоровым и асоциальным индивидам (равно как и абсолютный конформизм). Но мы в настоящей работе критикуем не этот нормальный вариант поведения, а его гипертрофированную форму, и под термином «конформизм» подразумеваем неосознанное следование за толпой, за массой, за многообразием сообщений и призывов СМК, за харизматическими лидерами и т.д.
Казалось бы, посредством приобщения к массовой культуре человек адаптируется к социальному большинству, что в какой-то степени можно назвать социализацией. Здесь уместно вспомнить одну фразу З. Фрейда, которая на первый взгляд может показаться парадоксальной: «чем больше человек адаптирован, тем менее зрелым он является, он закрыт для саморазвития»[481]. Адаптация в данном случае (к массе) ведет только к растворению индивидуальности внутри того объекта, к которому человек адаптируется. Этот процесс в некотором роде можно назвать деиндивидуализацией. Чем более индивид адаптирован к некоей культуре, тем менее свободно он может проявлять свои субъектные интенции, и по мере все большего погружения в эту культуру эти интенции начинают атрофироваться и, наконец, умирают. Именно с этого момента человек принимает за свое априори все то, что ему было навязано извне, не понимая механизма данной интериоризации.
Часто мы бессознательно боимся быть отличными от массы. Когда человек чем-то отличается от большинства, последнее начинает воспринимать его как чужеродный элемент. Общественное мнение – пожалуй, самый сильный фактор воздействия на психику отдельного человека. По замечанию О.Ф. Нескрябиной, конформизм проявляет себя тогда, когда выгодно соглашаться или страшно сопротивляться[482]. Это действительно так: если массы напуганы кем-либо или же если они заинтересованы в принятии решения, выгодного этому «кому-нибудь», они проявляют конформизм. Кнут и пряник. Первое явление – запугивание – следует назвать вынужденной конформизацией, а второе – выгода – полезной конформизацией. Но все-таки феномен конформизма реализует себя не только в лоне этих двух причин. Иногда массам проще согласиться с господствующим мнением не потому, что рецидивы несогласия будут преследоваться и не потому, что это согласие приведет к какой-то материальной выгоде, а только потому, что это мнение господствующее. Или же потому, что оно исходит от авторитета. Хотя это близко к тому, что мы назвали полезной конформизацией, поскольку она несет если не материальную или духовную пользу, то по крайней мере избавляет от психологического дискомфорта. Быть отщепенцем, отличным от всех, маргиналом внутри какой-либо социальной группы или объединения не всегда приятно в психологическом смысле.
В современном обществе потребления «манипулирование товарами как культурными знаками подразумевает не столько способность товара удовлетворять человеческую потребность, сколько социальное значение, придаваемое обладателю товара в данной культуре»[483]. То есть показатель моей статусности и ценности в глазах других людей – это то, что я потребляю. И, естественно, чтобы заслужить уважение со стороны массы, нужно потреблять те же самые товары, что и она: смотреть такие же фильмы, читать такую же литературу, слушать такую же музыку. Как раз мода и реклама указывают на те предметы, какие стоит потреблять. Но мы не задаемся целью измерить эффективность влияния этих явлений на создание приоритета масс относительно рекламируемых товаров – данному вопросу итак уделено достаточно внимания (например А.И. Пишняк констатирует значимость воздействия телевизионной рекламы на потребление[484]), и он выходит за рамки интересов философской науки.
Если человек стремится получить призвание и уважение масс, он становится готовым занять их уровень (культурный, интеллектуальный), уподобиться массе. С таким же успехом он перестает обращать внимание на то, что массовый вкус может ему и не нравиться, не удовлетворять эстетическую потребность, но удовлетворять потребности другого уровня. То есть, ему могут не нравиться массовые предпочтения – фильмы, музыка, образ жизни, - но ради получения всеобщего массового признания он будет все это слушать и смотреть, насильно приобщать себя к данной культуре. И разве это не модная тенденция – идти за массовыми вкусами? Как говорил А. Швейцер, «когда общество воздействует на индивида сильнее, чем индивид на общество, начинается деградация культуры, ибо в этом случае с необходимостью умаляется решающая величина — духовные и нравственные задатки человека»[485]. Может быть, если соглашаться с этим высказыванием, на упадок культуры в наибольшей степени повлияло общественное мнение, выступающее с позиции сверху – говоря языком трансактного анализа, с позиции доминирующего и грозного родителя по отношению к отдельному человеку, «ребенку»; в таком случае авторитарный характер воздействия социальных норм и предпочтений ведет к смерти духовности у реципиента, а вместе с ней и творческих интенций, превращая его в безвольного конформиста. В. Франкл определяет конформизм одним из следствий экзистенциального вакуума; для того, чтобы не утонуть в потоке средств массовой стимуляции, необходимо разделять существенное от несущественного, смысл от бессмыслицы. Само же современное общество Франкл называет обществом изобилия, порождающем избыток свободного времени, которое формирует экзистенциальный вакуум вместо предоставления возможности для осмысления организации жизни[486]. Хотя, по нашему мнению, нельзя называть все современное общество обществом изобилия, так как оно, помимо изобилия, выраженного в расточительстве, имеет в себе нищету как антипроявление изобилия. Кроме того, за маской расточительства трудно разглядеть проблему дефицита природных ресурсов, для которой есть место в современном социуме, но для которой нет место в настоящем обществе изобилия – его члены не стоят перед угрозой окончания ресурсов.
Конформизм – путь следования за модой. Д.А. Леонтьев называет конформизм противоположностью свободы[487]. Мы добавим к этому противопоставлению еще одно: конформизм – это антоним не только свободы и стиля, но и вкуса. Человек, следующий за веяниями моды, показывает в первую очередь свое безвкусие и отсутствие свободы. Он не имеет свободы выбора: выбирает не он, а время, для которого характерна определенная «модная» тенденция. Массовый потребитель – это пассивный материал, «который подвергается обработке и не озадачивается ее последствиями, хотя ему настойчиво внушается, что он свободен и волен совершать тот или иной выбор»[488]. «Выбор без выбора» - термин нейролингвистического программирования, означающий всего лишь видимость возможности выбирать. Человек выбирает между большим количеством продуктов, что создает иллюзию выбора, однако все эти продукты отличаются своей неотличимостью друг от друга. По замечанию Г. Маркузе, если все разнообразие товаров и услуг выступают формами социального контроля над жизнью общества и поддерживают отчуждение, то этот выбор не означает свободы, равно как постоянное воспроизводство индивидом ложных (навязанных ему) потребностей указывает не на его автономию, а, наоборот, свидетельствует о действенности контроля[489].
Такого явления, как мода, не может существовать без другого явления – безликой массы. Именно масса создает моду, а мода – массу, и это взаимообратный процесс, замкнутый круг. К.С. Шаров считает, что мода скорее порождает культурное и психологическое состояние общества, чем отражает[490]. По нашему мнению, она одновременно как это состояние конституирует, так и его отражает. По крайней мере, наблюдая за тенденциями моды, мы можем сделать заключение о мере культурного развития общества. Эти два явления – мода и масса – образуют неразрывную связку, и они не могут рассматриваться и, тем более, существовать в отрыве друг от друга. А значит, «модный» человек подвластен массам с их низменными потребностями и отсутствием вкуса, которые выбирают за него, но вряд ли этот выбор можно назвать действительным выбором; это его симулякр, иллюзия, равно как китч – симулякр искусства, симулякр культуры.
Мода также выступает синонимом безответственности; человек не берет отсветственности за свой вкус и действует по принципу «все так думают, и я тоже». Как писал Карл Поппер, размышляя о моде и ответственности, «теперь... в моду вошло такое понимание свободы, которое позволяет делать все, что угодно, даже вещи... отвратительные... Посмей презирать моду и каждый день будь немного ответственнее»[491]. Б.А. Вяткин связывает возникновение моды, массового вкуса, подражания и контагиозности (заразительности) с процессом отождествления себя с другими представителями своей этнической общности – самоидентификации по принципу «Я такой же, как все»[492]. Конечно, феномен моды может проявляться не только в контексте этнической самоидентификации – другими словами, растворении в генерализованном представлении о вкусе своей общности, - но и в контексте просто референтной для человека группы. Тем не менее стоит согласиться с Вяткиным в том, что этот феномен выступает результатом мышления по конформному принципу «быть как все», который не оставляет никакого места для индивидуальности субъекта. «Теряя свою персональность, человек отдает себя социальному «мы» и превращается в пассивную личность»[493]. В сущности, следуя за тенденциями моды, он надевает на себя маску, позволяя себе вовлечься в массовый маскарад. Многие рекламные ролики ради достижения цели – привлечения, увлечения и завлечения реципиента – активно используют принцип «все», апеллируя к мнению большинства. «Коля любит Мамбу, Оля Любит Мамбу…. И Сережа тоже». Подтекст: все любят Мамбу, а поэтому и ты должен ее любить. Таким образом, реклама апеллирует не только к уникальности человека, его неповторимости, но и к конформности, к коллективности.
Некоторые исследователи проявляют положительное отношение к моде. Так, мода именуется «одним из механизмов перехода внешнего во внутреннее, что является, по Л.С. Выготскому, основой формирования психических функций», «тиражом», связанным с желанием «быть, как все»[494]. Возможно, к этому явлению имеет смысл относиться положительно, но в первую очередь в условиях детского развития, поскольку ребенку необходимо подобным способом интериоризировать паттерны поведения сверстников для адаптации в коллективе и для дальнейшего личностного становления. Но, такое отношение имеет место в основном при рассмотрении развития ребенка, у которого еще нет достаточно сформированной собственной субъектности. На более поздних возрастных этапах стремление к подражанию «всем» становится камнем, лежащим на пути дальнейшего личностного становления, тем самым из средства развития превращаясь в барьер. Также имеет значение вопрос – кому подражать, поскольку «слепое следование моде может привести в мир мнимых, фальшивых ценностей, способствовать возникновению негативных явлений»[495]. Ученые говорят о том, что стремление к подражанию является более низшим этапом, чем индивидуализация, и уж тем более чем интеграция, и с этим трудно не согласиться. Если при первой стадии (адаптация) ребенок следует принципу «быть, как все» и стандартизируется, при второй (индивидуализация) он действует по принципу отличия, причем иногда жертвуя своими настоящими желаниями и потребностями. То есть, на второй стадии есть только мнимая личностная позиция – позиция «отличаться от всех», которая также зависит от мнения большинства (если все носят джинсы, я буду носить обычные брюки несмотря на то, что джинсы мне нравятся больше). Синонимом адаптации в данном контексте выступает конформность, а синонимом индивидуализации – негативизм. Конформность - это специфический способ «разрешения конфликта между личным и доминирующем в группе мнением в пользу последнего: зависимость человека от группы вынуждает искать подлинного или мнимого согласия с ней, подстраивать поведение под кажущиеся непривычными или ложными эталоны … Негативизм — стремление во что бы то ни стало поступать вопреки господствующему большинству, любой ценой утверждая противоположную точку зрения»[496]. А вот третья стадия (интеграция) характеризует сложившуюся личность, обладающую твердой субъектной позицией, не зависящей ни от кого (неважно, что делают все, а я буду делать то, что сам считаю нужным). Но снова обращая свой взор на массу, замечаем, что она независимо от возраста входящих в нее людей остается на низком (доиндивидуализированном) этапе личностного развития. «В пространстве общественных связей человек может утратить свое подлинное лицо, полностью заменить его социальной маской, которая и будет восприниматься им как истинное существование»[497].
В научной литературе также находит себе место понятие «высокая мода», которую можно свободно отнести к высокому уровню массовой культуры. К высокой моде в основном относят классические литературные, музыкальные и т.д. произведения. Но мы в нашем исследовании не уделяем ей особого внимания, так как в современном мире явления арт-потока массовой культуры получили недостаточное развитие, и высокая мода существует лишь в довольно узких интеллектуальных кругах, не оказывая серьезного влияния на широкую общественость и не имея возможности претендовать на один из основных факторов формирования субъектности. Следовательно, высокую моду нельзя назвать модой в подлинном смысле этого слова. Скорее, ее следует поставить рядом с таким понятием, как «тенденция». Если мода – это статика, реакция, то тенденция, - это динамика, первичный импульс, а не ответная реакция на уже существующие импульсы[498]. Этот первичный импульс вполне уподобляем ницшеанской воле к власти, абсолютно волюнтаристский, независимый ни от чего, дающий дорогу новому и защищающий новое от узколобого и закостенелого старого. Контртенденция базируется на человеческом страхе перед новым, перед будущим, и старается остановить движение времени, затормозить колеса истории, прийти к моменту безвременья, что мода и делает. Контртенденция всегда вторична и зависима от противоположного ей явления – тенденции.
В данном случае термин «тенденция» не имеет ничего общего с используемой нами в тексте фразой «тенденции китч-культуры»: тенденция как антоним моды и тенденции китча лежат в абсолютно разных понятийных плоскостях. Хотя иногда, говоря о рекламе, мы можем применять термин «тенденция» в его антонимичном моде понимании, если реклама предлагает нашему вниманию действительно принципиально новые продукты (ими могут быть некоторые штуковины), новизна которых служит не только потребительскому пафосу, но и выполняет по-настоящему практичные функции, которые ни один товар-предшественник выполнять не мог. Поэтому тенденциозность может пронизывать рекламу, но тогда данная реклама уже не будет являться частью китча.
Однако конформизм, в отличие от моды, иногда имеет место и в достаточно интеллектуальных сообществах, а потому его не всегда следует приписывать к китч-культуре. Так, Т. Кун и И. Лакатос[499] утверждают, что, прибегая к психологии массы, можно описывать феномены научного консерватизма и научной стагнации. Вообще, история науки в постпозитивизме описывается (в первую очередь Т. Куном) как история существования конформных настроений внутри ученого сообщества, затрудняющим создание и распространение новых теорий (по Куну – парадигм, по Лакатосу – научно-исследовательских программ). Мы не станем останавливаться на теме конформизма, исследуемого в контексте истории науки, поскольку эта тема лишь косвенно касается интересующей нас проблематики.
Несмотря на распространенное утверждение о субъективном характере вкусов и ценностей, мы все-таки можем давать объективную оценку этим вкусам. Так, Н.М. Борытко и О.А. Мацкайлова выделяют ценности культуры (внешние по отношению к человеку) и личностные смыслы (внутренние)[500]. Однако в современном мире китч-культуры фальшивые внешние ценностные значения в основном приобретают характер псевдоценностей, а когда они переходят во внутренние, вообще не стоит говорить о развитии личности, их присваивающей. Но существуют еще ценности настоящей культуры, присвоение которых делает личность более «возвышенной». Если мы гонимся за модой, за слепым большинством, то присваиваем преимущественно фальшь. «Публика не обязательно хороший судья, - пишет В. Декомб. – Ее определение вовсе не является непогрешимым»[501]. Не только тиражируемость говорит о качестве товара (а говорит ли вообще?); вместе с тем достойно быть услышанным то, что выходит за рамки известного и популярного. Но если мы предпочитаем вместо широко распространенного китчевого ширпотреба наслаждаться по-настоящему качественными произведениями искусства, наша система ценностей здорова и сохранна (к тому же она именно наша, а не навязанная нам извне).
Феномен моды, пожалуй, может иметь распространение только в обществе потребления, которое, по словам Е.И. Сапожникова, не ориентировано на человеческое саморазвитие и совершенствование его творческих и познавательных качеств, потребительский образ жизни бездуховен[502]. Модная потребительская культура – это бесконечная цепь товаров и услуг, постоянно предлагаемых массе. А масса, преимущественно молодежная, – порабощенный потребитель этих псевдоценностей[503]. В этом и заключается изменчивость моды; чтобы обеспечить ее постоянный коммерческий успех, требуется периодически (с каждым годом, например) изменять характер «наиболее продаваемых» вещей. Но эти изменения не должны быть кардинальными, чтобы не выходить за рамки «вкусов» большинства, не совершать резкие «переломы» и «революции»; так, если раньше было принято слушать группу «На-На», то потом вершину покорили «Иванушки-International», ну а после них взберется на Эверест кто-то другой, и эта цепь уходит в бесконечность, являя собой феномен вечного возвращения (не в ницшеанском смысле слова, а в более прямом – как бесконечное возвращение того же самого). Все более частую смену кумиров И.М. Мартынов называет признаком традиций музыкальной попсы[504], и мы полностью с ним согласны. Как бы не менялись «модные» вкусы толпы, какой быстрой на была бы динамика их предпочтений к новым кумирам, от этого данные вкусы никак не расширяются и не претерпевают никакого развития. Они по-прежнему остаются безвкусицей, а все многообразие кумиров – единообразием в своей серости, тривиальности и бездарности.
Мода – это индустрия производства образов, навязываемых человеку в пространстве массовой культуры в виде некоей референтности, за которой человек должен идти. Однако человек с четкой внутренней позицией, со сформированной системой ценностей и вкусов, не пойдет за модой; он находится над ней, по ту сторону добра и зла. «Характерная для современного человека «плавающая» идентичность приводит к рождению в разных сферах социальной реальности – в политике, искусстве, бизнесе – индустрии производства образов, имиджей, призванных оперативно откликаться на непрестанно меняющиеся запросы общества»[505]. Да, запросы общества меняются постоянно, но это не ведет к повышению культурного уровня социума, что дает нам право назвать эти изменения псевдоизменениями и придать моде качество псевдоизменяемости.
Мода изменчива, но настоящие произведения искусства остаются вечными в своей ценности и значимости. «Каждая эпоха в искусстве создает свои ценности, которые существуют объективно и независимо от быстротечной моды»[506], - пишет Н.В. Филичева. Стиль же неизменен, он остается, но может усовершенствоваться, как и само искусство способно развиваться и следовать по пути все большего самосовершенствования. А вот мода, несмотря на свою постоянную изменчивость, ни к какому совершенству не стремится, а в сущности, если использовать здесь термин развития, она стоит на месте; топчется, создавая видимость движения, но не более того. Мода изменчива в своей неизменчивости; выражаясь словами К.С. Шарова, «мода и стара, и нова»[507]. В такой же мере она и рациональна и абсурдна: рациональна для тех, кому приносит доход, абсурдна для тех, кто потребляет ее продукты. А.М. Желнова, вслед за Ж. Бодрийяром, замечает, что мода подменяет собой время и ведет к отсрочке старения, к зависанию между жизнью и смертью[508]. По нашему мнению, такое стремление к бессмертию – не более чем симулякр, уловка, так как в виду деиндивидуализированности потребителя моды и умирать-то становится некому.
Кроме того, так как китч-культуру благодаря ее низменности нельзя поставить рядом с духовностью, мы склонны связывать продукты китча с вещественностью и телесностью как антонимом духовности. Потребители бездарности – это консьюмеры, то есть люди, чья главная особенность – преобладание вещественного потребления. Одномерность и ограниченность их потребностей ведет к разрыву между потребительской и другими культурными ориентациями человека, который, в свою очередь, приводит к деградации самого человека и социальной среды, внутри которой человек живет[509].
Р. Барт говорит о том, что мода как гомеостатическая система не передает какое-то объективное означаемое. Она вырабатывает значение, но это значение «никакое», симулякризованное; здесь главное – наличие процесса значения, а не конкретного означаемого. «В моде нет ничего кроме того, что о ней говорится»[510]. По Барту, мода не приемлет содержания, но приемлет формы; собственно, это круговорот форм (годовой, вековой и т.д.). А круговорот, замкнутость, как известно, не ведет ни к чему, кроме замыканию на самом себе. Что же касается форм и содержания, то бартовский формализм моды более чем оправдан: зачем «модному» человеку нужно содержание, если есть форма? Если есть красивая обложка, манящая своей красочностью, внутри которой нет содержания. А оно и не нужно человеку моды – ну и пусть бессодержательно, зато красиво. По существу, бессодержательность моды не несет в себе никакой информации, никакого сообщения. Единственное, что оно может означать – это безвкусие. «Модная» масса не видит означаемого у того вихревого круговорота, которому она сама отдалась. Но этого следовало ожидать: как можно заметить означаемое, если не питать никакого интереса к содержанию? Как можно копнуть к чуть более глубокому уровню осмысленности и понимания, если познавательность не является ценностью? Мода, можно сказать, это также проявление антикогниции.
Именно за счет этой бессодержательности, за счет того, что новые модные идеи ничего не обозначают, не имеют цели и смысла кроме как стремительно множиться и распространяться и этим стимулировать социальное взаимодействие, возрастает скорость распространения модных тенденций[511]. Эта закономерность выглядит так: чем менее содержательно, тем более понятно, а значит, имеющее больше шансов на масштабное распространение. Кроме того, скорость наращивания актов взаимодействия превышает тенденцию порождения смыслов: чем больше всего, тем меньше в этом «всем» смысла и наоборот. Этот тезис напоминает мысль Ж. Бодрийяра о том, что мода – это часть бессмысленного, вирусного, незамедлительного способа коммуникации, скорость которого объяснима исключительно отсутствием передачи смысла[512].
Но как бы критически мы ни относились к таким тенденциям культуры, как мода и реклама, мы не способны полностью дистанцироваться от них. Их воздействие – хотим мы того или нет – в любом случае «давит» на нас. Оно распространяется по каналам СМИ и оставляет свой след в психике каждого члена общества и интегрирует его в социум, в чем прослеживается адаптирующая функция этих тенденций. Человек, находящийся вне массы, демонстрирующий свою инаковость, массой отвергается и обрекается на одиночество. Собственно, по Ницше, масса, стадо боится именно одиночества[513]. А мода и реклама открывают ему путь в пространство массовой культуры и оберегают его от многих экзистенциальных проблем, но вместе с тем препятствуют проявлению подлинной субъектности. Другое дело – насколько современный человек способен не избегать этих тенденций, не проявлять эскапизм, а противостоять им, сортировать воздействия, исходящие из недр массовой культуры, как полезные и бесполезные для саморазвития и развития своих субъектных качеств. Считается, что информация, предлагаемая коммуникатором реципиенту, может глубоко проникнуть в сознание последнего только в том случае, если она соответствует его целостному представлению о реальности[514]. Многие представители школы современного гипноза, будучи согласными с данным мнением, утверждают невозможность манипуляций над сознанием, которое не пропускает ничего, что противоречит ценностным ориентациям и мировоззрению субъекта. Но правомерно будет поставить вопрос: а если субъект не обладает мировоззренческой целостностью? В таком случае нечем фильтровать поступающую извне информацию. Эффективность воздействия манипуляций обратно пропорциональна устойчивости системы взглядов реципиента. «Если знание человека целостно, то крайне сложно навязать ему чуждые идеи»[515].
По замечанию К. Ясперса, так как общая деловитость требует понятной каждому простоты, она делает проявления человеческого поведения едиными во всем мире. Едиными становятся мода, правила общения, жесты, манеры говорить, характер сообщений. «От людей ждут не рассуждений, а знаний, не размышлений о смысле, а умелых действий, не чувств, а объективности, не раскрытия действия таинственных сил, а ясного установления фактов»[516]. Кроме того, вступая в какое-либо сообщество, человек ради сохранения самого сообщества стремится к согласию, а не к борьбе, что оценивается философом как отказ от самого себя, от индивидуального существования. Все это, как нам кажется, стоит на пути развития подлинной субъектности и стремится превратить человека в некий кибернетический организм, знающий, а не мыслящий, механический, а не рефлексивный, действующий по принципу «жить как все». Человек, по Ясперсу, - всего лишь функция, находящаяся внутри «аппарата обеспечения существования». В принципе, этот аппарат, каким его видит философ (поглощающий волю и экзистенцию человека), можно отождествить с массовой культурой в целом; скорее даже, в первую очередь с китчем. О подобном же явлении пишет Г. Маркузе, обвиняющий аппарат (индустриальное общество) в том, что тот делает из человека инструмент, вещь (это и есть критерий рабства), насаждает народу ложные потребности (к которым относит потребительство в целом, а также поведение в соответствии с рекламными образцами, конформизм и т.д.) – материальные и интеллектуальные, и призывающий освободиться от этого насаждения. Философ предлагает субъекту право выбора: принимать или не принимать ложные потребности, потакать или нет превращению себя в объект господства.
По утверждению Г. Маркузе, интеллектуальную свободу субъект может обрести путем возрождения индивидуальной мысли, которая в настоящее время поглощена СМК, путем упразднения «общественного мнения»[517]. Этот подход отличается радикализмом, так как не оставляет никакого права на выживание СМК и общественному мнению, которые противопоставляются интеллектуальной свободе. Однако в этих тенденциях современности можно усмотреть и положительное значение, которое вправе умалить радикализм, в соответствии с которым требуется полная ликвидация массмедийности.
Мир информационных технологий, оказывая влияние на субъекта, имеет двухвекторную направленность. Человек развивается в расширяющемся культурном поле жизни и постигает новые смыслообразующие центры, но вместе с тем он деградирует, ощущая изменения образа мышления и ценностных ориентаций[518]. Нам представляется характер воздействия СМК на субъекта двусторонним (впрочем, как и все поле массовой культуры), и нельзя с предельной категоричностью утверждать деструктивизм средств массовой коммуникации, но еще более не стоит наделять их конструктивизмом. По нашему мнению, это воздействие, будучи разновекторным, все-таки более склоняется в отрицательную сторону, нежели в положительную.
Последнее утверждение в некоторой степени оправдывает позицию ученых, крайне критически относящихся ко всякого рода СМК и их влиянию на субъекта. Однако массовая коммуникация не сводится только к моде и рекламе и их разрушительному воздействию на субъекта. Внутри массовой коммуникации мы находим и много позитивного. Новости (если они не наполнены мифотворчеством), познавательные теле и радиопередачи, средства общения (телефон, e-mail, интернет-форум) и т.д. – все то, что позволяет каждому из нас коммуницировать с другими людьми и, кроме того, технически облегчает этот коммуникационный процесс. Миллионы и миллиарды людей, населяющие всю планету, с помощью Интернета могут свободно общаться друг с другом, и на этот коммуникационный процесс затрачивается минимум времени и усилий. И вряд ли кто поспорит с утверждением о том, что СМК сближают людей, дают им необычайное удобство в общении и получении необходимой информации. Чего только стоит Интернет как библиотека, из которого без особого труда можно скачать почти любые книги, статьи, а также фильмы, музыку и т.д. С помощью сети можно делать заказы, как говорится, не отходя от места, общаться с людьми, находящимися на огромном расстоянии, знакомиться, подавать резюме в интернет-агентства, а также сеть позволяет нам осуществлять многие другие полезные операции. Интернет ликвидирует информационную разобщенность, облегчает поиск любой информации.
Техническая составляющая массмедийного мира, которая является его основой и без которой он не мог бы существовать, несет в себе огромную полезность для общества и человека. Едва ли хотя бы один человек может представить свою жизнь, лишенную компьютера, телефона и т.д. Кроме того, эти технические достижения, бесспорно, представляют собой огромный прогресс технической науки. Поэтому не стоит односторонне подходить к проблеме СМИ, усматривая в ней только негативизм и деструктивизм по отношению к субъектным качествам личности и жизнедеятельности общества в целом. Скорее, имеет значение то, в чьих руках находятся эти достижения науки и техники и ради каких целей они используются.
Ж Бодрийяр формулирует такую аналогию: если очки – это протез теряющего зрение человека, то компьютер – протез теряющего способность мыслить[519]. Но мы не склонны принимать всерьез такую радикальную позицию, также как и позицию французского философа о том, что человек придумывает «умные» машины потому, что разочаровался в собственном уме и пытается освободиться от всякой претензии на знание[520]. Подобные концепции в своей умозрительности и безудержной критичности уж слишком «сгущают краски». С таким же успехом можно сказать, забывая о конечности интеллектуальных способностей человека, что и калькулятор думает за нас, но ведь это не так. Как калькулятор, так и компьютер – не протезы и не условия дальнейшей деградации человека, а, наоборот, чрезвычайно важные в современную эпоху технические средства, позволяющие производить сложные операции, которые не под силу человеческому мозгу. Конечно, анализируя функциональность и дисфункциональность компьютерной техники, имеет смысл обратить внимание на то, для каких целей используется. Но в целом не стоит так категорично оценочно подходить к специфике влияния этой техники на человека.
В общем, медианасыщенность не только выводит социум на более высокий цивилизационный уровень, но и дает ему новые культурные эрзацы. Массмедийность уничтожает субъектность, растворяет ее в себе, конституирует ее в уродливой форме в соответствии со своими целями. Но вместе с тем она социализирует человека, а многие научные достижения, функционирующие внутри масс-медиа, действительно облегчают нашу социальную жизнь и обеспечивают легкость и быстроту межличностной коммуникации.
Глава 5. Общая характеристика состояния субъекта на различных уровнях массовой культуры и проблема внутренней дифференциации массовой культуры
1. Проявление субъектности на различных уровнях массовой культуры
Разрешить проблему влияния массовой культуры на субъектность позволяет модель, представленная из трех уровней массовой культуре. Если мы ранее сказали о ризоматичности массмедиа, которая фигурирует в основном на уровне китча, то также можно сказать и о соотношении всех трех уровней, одновременное сосуществование которых разрывает субъекта на части путем трехвекторного воздействия на него. Однако такое продолжение мысли, представляется нам слишком гипертрофированным, и вряд ли стоит придавать всей массовой культуры характер ризомы; тем более мы исходим из предположения, что масскульт представлен в виде иерархии, что уже осовобождает его от какой бы то ни было ризоматичности.
Китч. В отношении китча как низшего уровня можно совершенно однозначно сказать, что он разрушает субъектность, репродуцируя некритическое и нетворческое сознание, функционируя согласно закону экономии интеллектуальных сил. В общем, его воздействие на субъектность представляется максимально тоталитарным, в отличие от других уровней массовой культуры. Мода и реклама в основном функционируют на данном уровне, и эти тенденции являются не только средствами продвижения китча, но и самим его продуктом. Чем более эффективно их функционирование, тем больше людей склонны потреблять именно эту продукцию, поскольку китч обладает высокой проникающей способностью. Недаром многие исследователи критикуют массовую культуру, отождествляя ее с китчем: все-таки это самый низменный и в то же время самый широкий в смысле популярности уровень, и эти два его качества – низость и популярность – обеспечили редукцию масскульта в глазах большинства ученых только до китча.
В смысле широты китча уместно вспомнить теорию естественного отбора, согласно которой сильные побеждают слабых, вследствие чего происходит прогресс. Если же представить ситуацию наоборот, то мы увидим вместо прогресса упадок, декаданс. В данном случае мы понимаем теорию естественного отбора не столько в классическом смысле (дарвиновском), сколько в культурном (скорее ницшеанском), дополняющим классический вариант. Наблюдая за гегемонией китча внутри здания современной культуры, мы можем прогнозировать обратный результат естественного отбора; происходит настоящий культурный регресс – «слабые» (то есть потребители китча) представляют собой в количественном смысле большинство, а потому и превосходство над «сильными». И вместе с редукцией культуры редуцируются также субъектные качества человека. Китч-искусство создается «под аудиторию», а чтобы быть понятным всем и каждому, чтобы быть универсально «подстроенным», оно должно представлять из себя общедоступный и максимально примитивный во всех смыслах продукт.
Современный китч представлен в китч-журналистике (глянцевые журналы, страницы которых испещрены бессодержательными «сенсационными» статьями и т.д.), музыкальной попсе, низкопробном кинематографе, бульварном чтиве, массовой политике и т.д. Все эти проявления китч-культуры оказывают негативное воздействие на мировоззрение субъекта, его этические и эстетические ценности, на место которых водружают свои псевдоценности. Всю продукцию китча можно наделить понятиями бездарности, шаблонности, низкокачественности и семиотической простоты. Китч интеллектуально доступен, так как не требует умственного напряжения, и эта простота и доступность создают нерефлексивного, расщепленного субъекта. Можно сказать, что китч ориентирован не на общество, а именно на массы, какими мы их представили в главе 2. Главной чертой китча – точнее, целью, – выступает коммерциализация; культура и искусство уже не интересны сами по себе, в своей самодостаточности, а стали как средством заработка, так и заработок стал основной ценностью культуры. А поскольку массы поглощают, как правило, некачественный и низкоинтеллектуальный товар, то в коммерческих целях именно его и стоит производить; так происходит постоянно расширяющееся воспроизводство ширпотребной коммерческой продукции. Люди смотрят развлекательные ток-шоу, а поскольку последние пользуются спросом, создатели ток-шоу клонируют свои телевизионные продукты и представляют вниманию зрителей все больше и больше семантически, эстетически и аксиологически пустых телепередач, что еще сильнее укореняет в зрителях потребность в просмотре этих передач – вот наиболее наглядный пример самовоспроизводства китча, выраженный в виде замкнутого круга. Эта гегемония китча делает его культурой повседневности, а внутренняя пустота – культурой с пустым центром, телом без органов.
Китч однозначен. Он подает проблематику предельно упрощенно (редукция – один из его механизмов), опирается на стереотипность сюжетов и идей, ориентируется на обывателя и, оказывая воздействие на социум, осуществляет его массовизацию и десубъективизацию. Китч прибегает к монотематизму, предельной эксплуатации темы, которая при этом может быть не лишена внешней привлекательности[521], но лишь внешней. Монотематизм выражается в однообразных, клишированных, банальных и легко предсказуемых сюжетах в литературе и кино, где на главное место ставится коммерциализация, а не эстетизм и внутренняя насыщенность. Так, в киноиндустрии широко используются тиражированность сюжетов, благодаря которой зритель заранее может предугадать окончание фильма. Даже сам жанр позволяет преждевременно смоделировать концовку: в детективах преступление всегда раскрывается, в комедиях всегда все заканчивается хорошо и даже с пафосом, в боевиках главный герой, пройдя сквозь все муки и вырвавшись из тисков безвыходности, в конце концов пожинает все лавры. В подобных фильмах герои подлежат четкому бинарному разделению на хороших и плохих, где практически нет «смешанных» типов, что еще более упрощает понимание. Этой клишированностью, принципом механической воспроизводимости, который есть воплощение регресса в безвременность, помечены почти все продукты культуриндустрии[522], в нашем понимании, китч-индустрии.
Китч отвлекает от вещей трудных и прекрасных и склоняет к вещам легким и зачастую вульгарным. Этой однозначностью китч притупляет способность субъекта к рефлексии, к размышлениям, и делает из него бездумного робота. Кроме того, он усиливает данную тенденцию своей развлекательной направленностью. По словам М.А. Грекова, субъект уходит в мир иллюзий (компьютерные игры), отчуждается от реальности и, вытесняя бытие, тратит себя на псевдореализацию[523].
Китч ставит субъекта на танатальный путь. Эту танатальность не обязательно следует понимать в прямом смысле как стремление к физической смерти. Скорее всего, здесь имеет место так называемая «малая смерть» – метафизическая. Деперсонализация, десубъективизация, утрата идентичности, происходящие благодаря навязываемым идеологиям путем СМИ, модой и рекламой, приводит к этой самой смерти. Субъект, индивид теряется в массовом многоголосье, в среде так называемых дивидов, обладающих фрагментированным и расщепленным сознанием, гиперконформных, а значит, мертвых. Субъект становится подвластным тенденциям моды, основной принцип которой гласит: «Будь таким же как все» (что в принципе созвучно призыву: «Умри»). Субъект китч-культуры – послушное тело, подобно губке безоценочно впитывающий внутрь себя внешние влияния, исходящие как из широкого поля СМК, так и от других людей – тех самых «модных» консъюмеров, жертвующих своим Я в стремлении идти в ногу со временем, с массовыми вкусами и предпочтениями. Субъект, таким образом, утрачивает свои основные [субъектные] качества: осознанность, самодетерминированность и целостность мировоззренческой позиции. На место осознанности становится бессознательный и внерефлексивный характер деятельности (скорее ее можно назвать не деятельностью, а всего лишь активностью), лишенный осмысления происходящего. Самодетерминированость сменяется тотальной предзаданностью, в соответствии с которой властвующий элемент масскульта подчиняет себе субъекта. А на место мировоззренческой целостности приходит расщепленность сознания, представляющая собой уже не индивидуальное мировоззрение, а потребительскую идеологию, которой должны следовать абсолютно все. Сливаясь с большинством, с массой, субъект перестает бояться за себя, уходит от личной ответственности, но вместе с тем лишается свободы и отчуждается от самого себя («смерть не страшна, так как некому умирать»). Именно в этих тенденциях, трансформирующих субъекта, заключена танатальность массовой культуры.
Кроме того, таковую танатальность можно представить и в прямом смысле слова – как стремление к смерти. Банально будет говорить о разрушительных воздействиях на сознание человека (особенно ребенка) некоторых продуктов массового искусства – боевики, триллеры и т.д., – поскольку об этих явлениях в философской литературе итак достаточно сказано. Следует лишь заметить, что интериоризация идей данных произведений зачастую ведет к криминализации и росту преступности. В этом заключен физический характер танатальности масскульта.
Но не только масс-медийность является причиной такого тотального упрощения субъектности потребителя. Когда создатель произведений искусства – художник – видит упадок нравов и вкусов, он приобщается к этому упадку и уже предлагает товар, который своей художественной ценностью и качеством не возвышается над общими настроениями, а соответствует им. Такое потакание низшим вкусам ведет к смерти самого художника и его творчества. В общем, мы видим взаимообратный процесс предложения китч-культуры: как со стороны масс-потребителей, так и со стороны производителей.
Таким образом, следующее из регрессивного и одновременно репрессивного характера китч-индустрии массовое существование прямо противоположно подлинному человеческому существованию; оно является симулякром подлинности, его «тенью». Стоит также отметить, вслед за некоторыми современными исследователями[524], что кризис культуры, выраженный в упрощении (картины мира в сознании человека, а также и самого сознания) является причиной антропной катастрофы, и это выражается в выборе человеком танатального способа бытия.
Китч-культуру и культорой-то невозможно назвать. Скорее, это контркультура, антикультура, имеющая свои ценности – антиценности. Антиаксиологизм китча выражает себя не только в отсутствии человеко- и субъектоцентрированных ценностных составляющих, а в утверждении их эрзацев, что приводит к девальвации традиционных человекосозидающих ценностей – истинного, доброго, прекрасного, оригинального. Китч правомерно связывать с пошлостью быта (быдлость), который самозамкнут и довольствуется бытием-для-себя. Поэтому китч уместно вынести за скобки культуры вообще, но тем не менее мы не можем его дистанцировать от массовой культуры, в чем и заключается основной парадокс китча. Следовательно, тело массовой культуры, вбирающей в себя как китч, так и более высокие уровни культурного бытия, простирается настолько, что заключает в себе как культуру, так и антикультуру. Так что не на все явления человеческой жизни, создаваемые человеком и потребляемые человеком, следует распространять понятие культуры. «…культура не является всеобщей характеристикой человеческого бытия…»[525] (курсив Е. Д.).
Однако существует еще два уровня массовой культуры – мид и арт. Нельзя сказать, что мода и реклама им абсолютно несвойственны, но их продукты, как правило, рекламируются в меньшей степени. Их потребители сами осознанно выбирают, чему стоит отдавать предпочтение, а чему – нет. То есть, если китч массифицирует общество, то мид и арт, наоборот, его демассифицируют.
Мид можно представить как грань между артом и китчем. Культуру китча и ее влияние на субъектность мы уже достаточно полно охарактеризовали в предыдущих параграфах, а мид затронули вскользь. Субъект здесь уже имеет некоторый уровень критического мышления, но недостаточный для понимания и осмысления высоких культурных продуктов.
Этот уровень массовой культуры можно рассмотреть на примере вкусов современной общественности, тяготеющих к околонаучной литературе. Если обратить внимание на вкусы современного общества, то констатация факта упрощения, редукционизации науки навряд ли кого-то удивит. По крайней мере, редукционизм не самой науки как таковой, а той сферы, которой интересуется общественность. Конечно, наука изначально не была предназначена для широких масс и ей должны были заниматься лишь отдельные личности, посвященные, но сопутствующая нашему времени просветительская тенденция в некоторой степени меняет этот классический постулат. Хотя это изменение незначительно, поскольку термин «просветительская» во многом гиперболизирует и оптимизирует данную тенденцию; ей более будет соответствовать термин «околопросветительская». В чем же она заключается?
В современном массовом образовании повсеместно вводятся тесты, активизирующие не мышление учащегося, а только его память. Таким образом, главным качеством школьника или студента выступает наличие усвоенных знаний, а не способность к самостоятельному анализу материала. Также наблюдается уменьшение требовательности к ученикам посредством сознательного упрощения педагогами материала. Результатом здесь, по мнению А.В. Кукаркина, выступает подогревание в умах учащихся иллюзии о том, «что необходимое количество знаний может быть легко усвоено»[526].
Конечно, тесты являются необходимым инструментом, используемым при оценке учащегося, которые должны органично сочетаться с другими средствами проверки знаний. Но если происходит гипертрофированное их применение, то следует говорить о некоторой редукции культуры образования.
Но проблемы китч и мид-культуры, естественно, не ограничиваются только образовательной сферой, а проникают и во многие другие области человеческой жизни. Рассмотрим некоторые из них.
Общественность начинает активно интересоваться литературой, лишь отчасти находящейся в дискурсе науки. Медицина, философия, психология и т.д. При поверхностном рассмотрении можно данное стечение вещей назвать интеллектуализацией масс, однако… Медицина заменена нетрадиционными практиками: шаманизм, ведовство, знахарство вплоть до оккультизма. Тем самым она уже утрачивает свое первоначальное (научное) название и переходит в другую сферу, околонаучную. Великие философы теперь – К. Кастанеда, П. Коэлье, Э. Куатье и т.д. Психология представлена именами Н. Козлова и Н. Курпатова, книги которых стали бестселлерами. Вполне возможно, что перечисленные явления в какой-то степени дополняют научный дискурс и вносят в него свою лепту. Например, психология давно уже разбилась на два лагеря – практиков и теоретиков, точек соприкосновения между которыми практически не осталось, и у каждого лагеря свои авторитеты[527]. Но сравнительный анализ науки и названных явлений, равно как фиксация полезности/бесполезности последних не является предметом нашего рассмотрения. Факт заключается в том, что общественность испытывает огромный интерес или к предельно редуцированной науке или лишь к околонаучной литературе, к «профанности», используя термин Генона.
Эти явления можно считать вполне естественными. Учитывая напряженный образ жизни современного россиянина и непосредственно с этим связанное состояние культуры в стране, стоит только ожидать повальный эскапизм от интеллектуальной деятельности, желание убежать от таких же напряженных, как и вся жизнь, размышлений, но убежать не к развлечениям пустого китча, а к более цивилизованным видам деятельности. Наверное, можно порадоваться за то, что люди в своем большинстве хотя бы что-то читают, чем-то интересуются. Этот редукционизм мы не можем назвать китчем как проявлением предельно низкого уровня массовой культуры – если бы книжные магазины вообще закрылись за ненадобностью, это знаменовало бы собой полный упадок, но, к счастью, такого не происходит.
Помимо усталости людей, в качестве причины появления в его среде таких низких (по сравнению с подлинно научным творчеством) интересов связано с тем, что массмедийность, подстраиваясь под вкусы широкой публики, специально рекламирует то, что последним должно понравиться. Нет смысла вносить в массмедиа труды, например, представителей немецкой классической философии – они все равно не будут востребованными; подлинно научная литература обречена на лежание в самых отдаленных уголках библиотек. Однако вполне логично рекламировать то, что заведомо придется по вкусу широким слоям. Таким образом, круг замыкается. С одной стороны, общественность проявляет познавательную активность в соответствии со своими вкусами, а с другой – эти вкусы специально (в коммерческих целях, конечно) поощряются массмедийностью. Положительное действие научного редукционизма наблюдается в школьном обучении, где крайне неэффективно было бы перегружать сознание детей сложной научной терминологией, а упрощение этого языка обеспечивает эффективность понимания и усвоения. Однако если школьники не могут сразу постигать научный дискурс в его настоящей сложной форме, то общественность не хочет этого.
Значительная часть общества продолжает интересоваться художественными произведениями, которые целесообразно объединить под общим названием «массовая беллетристика». Массовая беллетристика ориентируется в первую очередь на вкусы читателя, а не на эстетику или авторское самовыражение. Ее главная особенность – занимательность без оказания глубокого влияния на духовный мир субъекта. Данная форма литературы не оказывает ни позитивного, ни негативного воздействия на субъекта, – она его развлекает. Но если в таком развлечении, временном отдыхе и отходе от насущных проблем, усматривать некоторый психотерапевтический эффект, то массовой беллетристике отчасти можно придать положительный характер влияния на субъекта. К ней следует отнести получившие распространение романы Д.Х. Чейза, С. Шелдона или Г. Мастертона. Примерами из отечественной литературы могут послужить книги Н. Перумова, С. Лукьяненко и т.д.
Если попытаться охарактеризовать данную ситуацию – интересы общественности к псевдонаучной и низкодуховной литературе, – прибегая к трехуровневой модели массовой культуры – арт (высший), мид (средний) и китч (низкий), - наиболее целесообразно отнести ее к мид-культуре.
В качестве еще одного примера мид-культуры можно привести большую часть продукции американского кинематографа. Несмотря на огульную критику американских фильмов многие из них отличаются невоспроизводимостью благодаря наличию дорогих и качественных спецэффектов, что уже выводит их за рамки китча. Конечно, характер данной кинематографии отличается бедностью духовной, интеллектуальной и моральной составляющих, но в то же время трудно согласиться с их полном отсутствием в таких известных фильмах, как «Зеленая миля», «Контакт», «Форрест Гамп», «Пианист», «Трасса 60» и т.д. С другой же стороны, российский кинематограф пытается не отставать от западного, создавая фильмы с не отличающимся особым изяществом сюжетом, но при этом изобилующие дорогими спецэффектами.
К веяниям мид-культуры также относится адаптация классики к «экранной» культуре, например экранизация «Войны и мира». В общем, как отмечает Б.С. Ерасов, для мид-культуры характерно соединение образцов популярной культуры и высокой[528]. Не отводя своего внимания от кинематографического контекста, следует добавить, что многие люди изучают историю только лишь благодаря просмотру фильмов, посвященных исторической проблематике. Не так давно вышли действительно высокохудожественные фильмы типа «Трои», «Спартака», «Елены Троянской», «Александра». Конечно, в этих фильмах в той или иной степени наличествует авторский подход, согласно которому ради достижения кассовости продукта некоторые события далеки от действительных исторических фактов, о которых повествует фильм. Однако, несмотря на подобные режиссерские ходы, данные фильмы можно причислить к арт-культуре. Но вместе с тем проблему познания какой-либо научной дисциплины (в данном случае истории) не из специальной литературы, а из развлекательных фильмов, следует отнести к мид-культуре. Эта тенденция представляется близкой тому примеру, когда школьник вместо чтения первоисточников обращается к книге типа «Все произведения школьной программы в кратком изложении», тем самым знакомясь с трудами Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и другими представителями классической литературы путем следованию линии наименьшего сопротивления. Но в таком случае текст, который он читает, кардинальным образом отличается от того текста, с которым должен ознакомиться; первое – не просто упрощенный вариант второго, а пародия с выхолощенным содержанием, где нет места глубине авторской мысли, утонченности и красоте повествования. Таким образом, одним из аспектов окультуривания является не только содержание материала, но и способ его трансляции.
Или же в фильм закладывается какая-нибудь достаточно глубокая философская идея, но которая оформляется в соответствии со вкусами большинства. То есть, у абсолютно массового бездумного и шаблонного сюжета, наполненного перестрелками, драками и погонями, есть достойное интеллектуальное основание. Но это серьезное основание – для кассовости фильма – во многом выхолащивается и вульгаризуется, отдаваясь на растерзание вкусам толпы. К сожалению, процессу выхолащивания подверглась научная фантастика – в первую очередь романы А. Азимова, Ф. Дика и других признанных авторов фантастических шедевров. В качестве примеров могут послужить такие фильмы, как «Матрица», идея для создания которой навеяна философией Ж. Бодрийяра, «Обитаемый остров», снятый по произведению братьев Стругацких. В общем, из эстетико-интеллектуального литературного шедевра «лепятся» «гамбургеры» мэйнстрима. Но вместе с тем, несмотря на подобную редукцию, данные фильмы дают человеку повод для мыслей, провоцируют мыслительную деятельность, что уже позволяет отгородить их от обвинений в китчевости.
Следует заметить, что мид-культура, будучи неким посредником между китчем и артом, трудно поддается понятийной репрезентации. Критерии, по которым культурные продукты можно классифицировать, настолько нечетки, что описываемая нами иерархическая модель массовой культуры весьма условна. Рассматривая мид, можно провести параллель с понятием среднего класса, относительно которого в научной литературе – на страницах Санкт-Петербургского философского общества – развернулись целые дискуссии[529]. Одни считают, что средний класс в России существует, а другие отказывают ему в существовании. Одни рассматривают его только из статусно-материального критерия и причисляют к нему чиновников и предпринимателей, а другие – которых намного меньше – исходят из культурного критерия, причисляя к среднему классу людей образованных, воспитанных и т.д. Однако большинство исследователей склоняются к мнению о шаткости и недостаточной определенности среднего класса в современной России. Отсутствие единых показателей дифференциации среднего класса ведет к разным оценкам его численности[530].
Наша трудность заключается в том, что не представляется возможным выделить прослойку общества, которая одновременно соответствовала бы определенным уровню дохода, социальному статусу, уровню образования и квалификации, разносторонним интересам и соответствующему культурному развитию. В этом смысле мы видим аналогию мид-культуры и среднего класса, которые в теории соответствуют друг другу; средний класс – носитель мид-культуры. Однако на практике четко выделить грани, отделяющие мид от других форм культура, а средний класс от других классов, не представляется возможным. Например, можно ли причислить к среднему классу человека, имеющего высшее образование и готовящегося к защите кандидатской диссертации, но работающего на низкооплачиваемой должности ассистента кафедры? Едва ли. Или «идейного» потребителя китч-культуры, которому чужд интеллектуальный труд и эстетические вкусы, но имеющего высокий уровень дохода?
Арт. Конечно, влияние массовой культуры на субъекта более или менее легко поддается пониманию, а взаимообратный процесс понять значительно труднее. Если говорить о предельной форме воздействия субъекта на массовую культуру, уместно вспомнить теорию Ф. Ницше о сверхчеловеке, этом «сокрушителе скрижалей», который возвышается над массовой культурой. Уже рассмотренная нами концепция М. Фуко об «основателях дискурсивности» также будет иметь место в данном контексте. Но обе теории требуют от человека не просто подлинных субъектных качеств, а их предельно высокого развития, гениальности, которая присуща лишь небольшому количеству людей. Именно такого субъекта, создающего новые культурные нормы, обогащающего культуру, выходя за ее границы, Е.С. Валевич именует «индивидуальностью по содержанию», противопоставляя его человеку массы[531]. Давать возможность только гению воздействовать на массовую культуру, лишая такой возможности других людей, мы не станем, поскольку такая концепция кажется нам слишком пессимистичной и обрекающей «всех остальных», не вписываемых в ее рамки, оставаться на уровне пассивных реципиентов, смиренно пропускающих через себя (и внутрь себя) любые воздействия.
Арт-культура направлена на формирование субъекта с присущими ему творческими и интеллектуальными качествами. Когда человек творчески проявляет свою индивидуальность, креативные потенции своего индивидуального стиля, он, выходя за границы дозволенного, занимает место над культурой и перестает быть ее пассивным потребителем; перерастая культуру, он сам начинает ее развивать. Подтверждение этой мысли мы находим в работе А.С. Шарова, который называет творчество взаимопереходом ценностей человека в ценности культуры[532]. Хотя, по нашему мнению, вместо термина «взаимопереход» более уместным будет слово «переход», так как имеется в виду не двусторонний процесс, а именно интериоризация культурой ценностей отдельного субъекта.
Деятели культуры и искусства – ученые, музыканты, писатели и т.д. – все они в некотором роде влияют на состояние масскульта, и каждый из них осуществляет свой вклад в культуру. Перерабатывая созданный ранее культурный продукт, они создают что-то новое. Но в то же время они, находясь внутри культурного пространства, не могут полностью абстрагироваться от него, что влечет за собой обратное влияние массовой культуры на них, и здесь становится уместным понятие взаимоперехода. Недаром человек определяется одновременно и как творение и как творец культуры[533]. В таком случае происходит коммуникация между субъектом и культурой, характеризующая себя двусторонностью, наличием обратной связи. Массы, не являющиеся субъектами, лишены этой коммуникации, и обречены на выполнение роли пассивного потребителя. Здесь и заключено принципиальное отличие арта от китча. Ценители высокого искусства в своем большинстве люди интеллектуального труда, чей уровень развития позволяет сопротивляться манипуляционным воздействиям извне и совершать осознанный выбор. Арт как форма культуры, будучи, в отличии от китча, менее тиражированным и непонятным для масс, далек от повседневности и являет собой нечто более высокое, духовное, надповседневное. Именно поэтому арт экономически и психологически (особенно психологически) недоступен большинству.
Однако многие явления арта остаются достаточно широко тиражированными. В сущности, это (и не только это) отличает его от элитарного искусства. Хотя сейчас такие отжившие свое группы, как Rolling Stones, Jethro Tull, Rainbow, Scorpions, Nazareth собирают не такие огромные залы, как двадцать-тридцать лет назад, все же на безвестность и забвение они пожаловаться не могут. В сущности, к арт-культуре мы относим всю классику британского рока, в которую входят помимо перечисленных команд многие другие группы, чей вклад в музыку неоценим: the Doors, Cream, Jefferson Airplane, Pink Floyd, Yes, Emerson, Lake & Palmer, Deeep Purple, Uriah Heep и т.д. В свое время они были достоянием молодежного большинства и относились скорее к мид-культуре, но время показало, что их влияние на музыкальную культуру настолько огромно, что они заслуживают очень высокого положения в музее общемировой культуры и искусства. Кроме того, их произведения, в отличии от песен так называемых попсовых исполнителей, не канули в лету, не стали песнями-однодневками (сегодня есть, а завтра нет), а достойно выдержали испытание временем.
В литературном жанре научной фантастики мы находим много авторов, произведения которых следует отнести к высоким образцам массовой культуры. Когда-то огромная часть населения в первую очередь в развлекательных целях зачитывалась книгами Г. Уэллса, А. Азимова, К. Саймака, Г. Гаррисона, Р. Хайнлайна, Б. и А. Стругацких, А.Р. Беляева, И. Ефремова. Сейчас, как и в случае с вышеназванными рок-исполнителями, эти фантасты перестали быть массовыми, так как их былую популярность затмили другие – намного менее талантливые – подражатели. Однако дискурс, созданный данными авторами, является не только фундаментом всего литературно-фантастического каркаса культуры, но и отправной точкой, двигаясь от которой, начинают свое творчество современные писатели-фантасты.
По нашему мнению, из наиболее современных явлений к веяниям арт-культуры следует отнести роман Д. Брауна «Код да Винчи» и одноименный фильм. Нам непонятна огульная критика, направленная в адрес этого произведения со стороны церкви. Да, там описана альтернативная версия, не укладывающаяся в лоно христианского мировоззрения. Но ведь Браун просто написал хороший роман, который не претендует на научно-исторический статус и его нельзя воспринимать как истину в последней инстанции. Это просто художественное произведение, созданное весьма качественно и оригинально.
Мид- и арт-культура, фигурируя в контексте политики, препятствуют распространению политических мифологем и поклонению харазматическим лидерам. Можно сказать, что они противопоставляют себя политическому манипулированию и тотализации общественного порядка и в свою очередь способствуют мобилизационным тенденциям в контексте самоидентификации – как индивидуальной субъектности, так и национальной.
Конечно, трудно представить себе человека, бытие которого было бы связано только с высокой культурой. В любом случае каждый представитель интеллигенции испытывает интерес и к мид и к китч-культурам. Вполне справедливо отмечается, что массовое искусство открыто для приверженцев искусства высокого, но высокое искусство закрыто для сознания потребителей массового[534]. То же самое можно сказать применительно и к уровням массовой культуры. Если китч-идеалы могут понять все, то ценности более высоких уровней понимаемы не каждым. Поэтому китч более открыт и, соответственно, притягателен, чем вышестоящие этажи сложного здания под названием массовая культура.
Мы рассматриваем отношения массовой культуры и субъектности как симбиотические. С одной стороны, массовая культура формирует субъектность, оказывая позитивное влияние на индивидуальное развитие. С другой же стороны, масскульт ограничивает эту субъектность определенными рамками, препятствуя ее дальнейшему развитию, достигая которого, она могла бы возвыситься над массовой культурой и противопоставить себя последней. Человек не может жить и развиваться без массовой культуры, вообще без культуры как таковой; находясь в отдалении от культуры, он уподобляется животному. Но вместе с тем массовая культура редко позволяет человеку «стать выше себя самой». В этом и заключена диалектичность взаимоотношений массовой культуры и субъекта. И для того, чтобы создать четкое разграничение между конструктивным и деструктивным влиянием массовой культуры на субъектность, мы приняли уровневую модель массовой культуры, каждый уровень которой оказывает одно из этих влияний: китч – негативное, мид – в основном нейтральное, арт – позитивное.
Традиционно основную роль в окультуривании человека занимали образование и воспитание. Однако в ситуации, когда они сами приняли недостаточно высокий культурный облик, не стоит воспринимать их как неоспоримые авторитеты в контексте повышения общей культуры. В первую очередь необходимо обеспечить нормальное, нередуцированное функционирование обоих процессов формирования личности и полноценного субъекта, для чего требуется вынести их за скобки массовой культуры (по крайней мере, используя термин А.В. Пронькиной, ее «общепринятых» типов), поставить «по ту сторону добра и зла», в область арт-культуры, граничащей с элитарной. Как отмечает К.А. Овчинникова, особая роль в становлении ответственной, творческой и целостной личности, в ее одухотворении, отведена образованию и воспитанию, определяющих суть общественных изменений[535]. Но важно также знать, что представляет из себя современная образовательная и воспитательная деятельность, чтобы понять, в какой степени она способна содействовать становлению подлинного субъекта.
Каждый из уровней массовой культуры, отличаясь своими содержательными характеристиками от других уровней, оказывает определенное, также отличное от остальных уровней, влияние на субъекта. Следовательно, углубляясь в проблематику влияния массовой культуры на субъекта, необходимо актуализировать проблему качеств, присущих субъекту: целостность, автономность, сознательность.
Китч-культура в максимальной степени редуцирует эти качества, но нельзя сказать, что она их полностью уничтожает. Они просто становятся иными, не тождественными своей сути. Так, целостность является устойчивостью предпочтений, ограниченной вещизмом, превращаясь в адекватный субъекту вещественный ряд. Она мозаична, так как состоит из вещей, а не из идей. На место одной вещи с легкостью может встать другая (если раньше были модны машины Mersedes, то теперь Lexux). Собственно, вещи и стремление ими обладать определяют характер мировоззрения, и целостность субъекта становится иллюзорной и текучей, так как совокупность предметов материального достатка в процессе изменения моды (внешнего явления, идеалы которого субъект принимает за свои) претерпевает изменения. Автономность выражает себя не в соответствии с собственной сущностью, а через конформное стремление субъекта следовать ценностям окружающей его культуры. Но это следование происходит бессознательно, что является свидетельством субъектной неосознанности, так как условием настоящей автономности выступают воля, мышление, а также наличие сознательности действий и рефлексивной оценки своих поступков. Думая, что он следует своим идеалам и ценностям, на самом деле субъект китча не отдает себе отчем в том, что эти идеалы бессодержательны в духовном смысле и некритично восприняты извне.
Мид-культура характеризует себя большей сохранностью данных качеств. Она обеспечивается: а) путем сосуществования в субъекте различных интересов, соотносимых как с высшими, так и с низшими уровнями культуры, которые в совокупности создают определенную срединную степень развития субъектных качеств; б) через предпочтения именно к средне-культурным продуктам, которые не требуют особого эстетико-интеллектуального напряжения, но вместе с тем для их восприятия и осмысления необходимо затрачивать некоторые психические ресурсы, что приводит к формированию мировоззрения, осознания себя в той или иной степени творцом своей судьбы и т.д.
Арт-культура направлена не только на формирование богатого внутреннего мира, но и на появление его глубокого осмысления и рефлексивного отношение к нему. Арт актуализирует субъекта как систему, обладающую устойчивой целостностью своего мировоззрения. Причем данная устойчивость остается открытой для обогащения идеями и ценностями, поступающими извне, но при этом она благодаря собственной автономности и сознательности способна делать осознанный выбор относительно того, что стоит принимать, а от чего целесообразней отказаться, что соответствует уровню развития самой системы, а что не соответствует. То есть, благодаря своим атрибутивным качествам субъект наделяется способностью к глубокому осмыслению действительности, к осуществлению осознанного выбора и к поиску настоящих путей самореализации.
|
Атрибутивные характеристики субъекта |
Уровни массовой культуры |
||
|
Китч |
Мид |
Арт |
|
|
Сознательность |
Бессознательность, рефлексия через сугубо внешние нормы |
Противоречивость рефлексии (между внешним и внутренним) |
Саморефлексия по собственным критериям |
|
Автономность |
Конформизм, |
Не создание |
Самодетерминация в поступках |
|
Целостность |
Шаткость |
Относительная устойчивость |
Устойчивость |
Как мы видим, между выделенными нами атрибутивными качествами субъекта существует прямая взаимосвязь, благодаря которой развитие (или упадок) одного качества ведет к изменению другого. Едва ли можно представить себе субъекта, в полной мере обладающего целостным мировоззрением, но при этом утратившим автономность и осознанность. То есть, трансформация одного качества определяется через трансформацию другого.
Суммируя все сказанное, сделаем следующее заключение. Массовая культура оказывает разнородное влияние на субъекта, а именно: китч-кульура разрушает субъектные качества, мид-культура их сохраняет, арт-культура их развивает.
Отличия между уровнями массовой культуры
|
Китч |
Арт |
|
Танатальность |
Витальность |
|
Конформизация |
Индивидуализация |
|
Развлекательная процессуальность, лишенная полезного результата |
Результативность |
|
Узость путей самореализации |
Широта путей самореализации |
В данной таблице мы упустили из виду мид-уровень, так как он, занимая срединное место, не является показательным. Таблица же отображает крайности массовой культуры, которые нашли свое проявление в китче и арте.
Массовая культура – это определенная система. А согласно принципу системности, каждый высший уровень включает в себя предыдущий, то есть низший. И несмотря на то, что мы отметили принципиальные различия между разными уровнями масскульта, разницу в их аксиологическом или эстетическом содержании, которая на первый взгляд не дает возможности как-то прировнять их носителей, поставить их рядом, все же уровни выступают элементами одной системы, внутри которой высший включает в себя все остальные. Как уже неоднократно отмечалось, одни ценности и стремления принадлежат «низам», а другие – «верхам». Если проблематика низовой культуры общедоступна и семиотически проста, то проблематика высокой культуры доступна только ее законным адептам. Смысл этого умозаключения мы можем продемонстрировать на простом примере.
Суть китчевой литературы сводится к тому, что доктор наук может вполне быть захваченным детективным сюжетом и с жадностью прочитывать страницу за страницей книгу какой-нибудь П. Дашковой, так как ее автор, не отличаясь писательским мастерством и глубиной затрагиваемой в книге проблематики, все-таки обращается к легкодоступным для каждого и процессуально захватывающим темам преступления и его раскрытия, а также проблемам выживания. Интеллектуал может с интересом читать «мыльную» сентиментальную прозу, так как в ней происходит обращение к темам любви, ненависти и человеческим судьбам, помещенным в близкий и понятный каждому любовный контекст. Однако лишенная образования домохозяйка едва ли будет смотреть телепередачу о музыке Вагнера или слушать группу King Crimson. То есть, первое доступно всем и не требует специальной подготовки, а второе доступно далеко не каждому. Поэтому потребитель высоких культурных образцов с легкостью поймет содержание продукции низкой культуры, но обратного характера в этой тенденции не наблюдается.
2. Проблема семантических различий между уровнями массовой культуры
Так как китч своей широтой охватывает большое социо-культурное пространство и осуществляет серьезную интервенцию в область культуры, то – для максимально полной социализации – необходимо адаптироваться к большинству, то есть к китчу. Потребитель этой культуры – наиболее адаптированное существо, поскольку его интересы совпадают с интересами большинства, большинство (масса) его понимает и признает как своего. Потребитель же арт-культуры практически не интегрирован в социальность, так как его вкусы, ценности и идеалы не имеют онтологический статус всеобщности и не могут быть поняты и приняты основной массой. Так, социализация и китчевость выступают почти синонимами или, по крайней мере, словами, близкими по значению, в массовом обществе. Данными рассуждениями мы дополняем уже изложенные идеи о соотношении нормы и патологии.
Д.К. Муратов, исходя из контекста массовой культуры, разделяет молодежь на четыре типа: 1) губки (безоценочно впитывают все модное из мира рекламы, телевидения, Интернета и т.д., подвержены огромному массмедийному воздействию), 2) умеренные (придерживаются какого-то одного стиля, т.е. имеют более или менее устойчивую систему ценностей), 3) совки (приверженцы советской культуры), 4) философы (избирательно относятся к поступающей информации, вычленяя из нее только самое лучшее)[536]. Примиряя данную классификацию на феномен субъекта, находящегося внутри массовой культуры, мы обнаруживаем некоторую корреляцию. Так, «губки» – это представители китч-культуры, умеренные в большей степени относятся к среднему уровню масскульта, в то время как философы – ценители арт-культуры (Муратов – в подтверждение нашего тезиса о широте распространенности китча и узости арта – видит в философах самую малочисленную группу). Однако так называемых совков мы не можем причислить к какому-то определенному уровню, так как приверженность к советской культуре не представляется нам критериальным по отношению к взаимосвязи «уровень масскульта – степень развития субъектности». В общем, совки выпадают из нашей классификации. Надо заметить, что описанные Муратовым четыре типа относятся не только к молодежной среде, как он считает, а к более широкой среде потребителей массовой культуры, то есть к общественности в целом.
Таким образом, мы видим три сферы, в своей совокупности образующие сложный конструкт массовой культуры. Соответственно, артефакты выпускаемой в мире искусства продукции можно причислять к данным уровням. Но такое разделение масскульта носит условный характер, и не представляется возможным прочертить точную демаркационную линию между ее уровнями. Подобную семантическая подвижность границ уровней массовой культуры можно воспринимать как свидетельство определенного теоретического неблагополучия внутри данного дискурса. Соответственно, возникает трудность в конкретном определении семантической составляющей каждой формы масскульта. Естественно, некоторые явления искусства мы можем однозначно отнести к какому-то определенному уровню, но лишь некоторые. В целом же далеко не все явления поддаются строгой классификации и разложению по полочкам массовой культуры.
Для обоснования данного тезиса следует рассмотреть примеры. Если мы примем положение о том, что китч-культура как низший уровень масскульта является синонимом понятия «бескультурье», то его публику имеет смысл представить как абсолютно нерефлексивную (и даже деградировавшую) часть общества. Известно, что многие люди в наше время не утруждают себя такими интеллектуальными занятиями, как, например, чтение. На место этой просветительской деятельности становятся компьютерные игры, так называемые тусовки, вульгарные телевизионные сериалы и ток-шоу, мещанский и потребительский образ жизни, танатальность вплоть до наркомании, алкоголизма и полного ценностного вакуума. Но всегда ли чтение можно именовать просветительской деятельностью? Область литературы помимо подлинной литературы обнаруживает внутри себя также и свой абсолютный антипод, который лишь условно называется литературой, в лице бульварного чтива. Дешевые сентиментальные романы, сомнительного содержания беллетристика, не менее сомнительные газеты и журналы, привлекающие массы не высокодуховным содержанием, а избытком сенсаций и сплетен – весь этот литературный маргинализм получил широкое распространение. С одной стороны, его можно условно назвать литературой, а значит, он уже не относится к китчу. С другой же, как самый низ писательского искусства он представляет собой ни что иное, как китч. Если рассматривать данное явление с общекультурной позиции, то мы не сможем атрибутировать его к низшему уровню культуры, так как низы вообще ничего не читают. Но если мы исходим из конкретного контекста – литературного, – то все вышеперечисленное может быть помещено на самую нижнюю полку, так как в мире литературы нет ничего более низкого. Сюда же принято помещать не только псевдоромантическую сентиментальную прозу, но и детектив. Однако едва ли стоит относить к китчу произведения таких классиков детективного жанра, как Э.А. По, А. Конан-Дойль, А. Кристи. Их произведения отличаются от «массового» детектива тем, что в них основным аспектом, краеугольным камнем выступает тайна, которую следует разгадать, приложив серьезные умственные усилия с использованием логики. А в китч-детективах основанием является не изощренность головоломки, а в первую очередь грубая физическая сила главного героя или же общая атмосфера романтизации насилия и преступности.
Или другой пример – литературный жанр, именуемый фантастикой. Как правило, искусствоведы отводят ему более высокое место, нежели детективу, но вместе с тем фантастика не считается по-настоящему серьезным жанром, который можно было бы удостоить наивысшего положения. И снова возникает вопрос: какая именно фантастика? Само слово «фантастика» ассоциируется в массовом сознании с вымыслом, мифом, чем-то, лишенным научно-достоверного основания; но такую позицию нельзя назвать достаточно объективной. Конечно, книги Ю. Петухова, С. Лукьяненко и т.д. едва ли заслуживают особо привилегированного места, но не стоит понятие «фантастики» стереотипно связывать именно с этими фамилиями. Р. Брэдбери, Р. Желязны, А. Азимов, Р. Хайнлайн, К. Саймак, А. Беляев и т.д. – гениальные писатели, авторы самых лучших творений этого жанра, так называемые классики фантастического дискурса, который не без оснований называется именно научной фантастикой. Их работы, пусть наполненные вымыслом, все же имеют серьезное научное обоснование, и данная научная основа не позволяет ассоциировать этот жанр с ничем не подкрепленным мифологизмом. Как замечает В. Декомб, все тексты выразимы друг через друга, и это уничтожает различие между научным текстом и фантастическим[537]. Правда, мысль Декомба не имеет связи с дифференциацией дискурсивных практик искусства в соответствии с культурным критерием, а скорее созвучна идеям постмодернизма и постпозитивизма, направленным на уничтожение всяких различий, демаркационных линий между наукой и мифом. Скорее даже наоборот, если мы, указывая на абстрактность культурных различий, отстаиваем тезис о их существовании, Декомб говорит об их отсутствии. Но тем не менее, несмотря на противоречие между нашей позицией и позицией французского философа, мы находим в высказанной им идее сходство с нашим проектом; но только если его слова воспринимать буквально, а под фантастикой понимать именно научную фантастику.
Поэтому, взяв во внимание фантастический жанр в целом и проводя сравнение его с другими литературными жанрами, выделяют ему в основном срединную полочку. Но, проникая внутрь фантастического жанра и уделяя внимание уже не самому дискурсу, а конкретным авторам, имеет смысл проводить между их произведениями такую же разделительную линию, как и между самими литературными жанрами. Таким образом, возникает предположение о том, что классификации поддаются не только сами продукты искусства, но и его виды: литература находится «выше» других видов – музыки, кино и т.д. Кроме того, абстрактность классифицирования определяется позицией, из которой исходит субъект оценки, которая может быть как общекультурной, так и частноконтекстуальной.
Утверждение привилегированного положения одних видов искусства перед другими требует пояснения. Далеко не все виды, если их рассматривать в сравнении друг с другом, можно назвать массовыми по распространенности. Массы больше времени уделяют компьютерным играм и так называемой примитивной эстрадной музыке, чем книгам и театральным постановкам. Так что внутренняя специфика некоторых видов искусства может быть понята в основном только эстетами. Таким видом выступают литература и театр. Однако, как мы уже показали, литература хоть и является достаточно высоким видом искусства, понимание которого и увлечение которым свойственно далеко не всем индивидам, составляющим социум, все же не всегда она является именно такой высокохудожественной. В этом и заключена трудность однозначного отнесения ее продукции к определенным уровням массовой культуры. Так, писательское сообщество можно мыслить в качестве элитарного, хотя 90% писателей находятся вне известности, а многие пишут довольно низкие по своему содержанию произведения, которые никоим образом нельзя причислить к высоким уровням культуры. Поэтому вопрос в том, является ли писательское сообщество элитарным, повисает в воздухе, поскольку ответ на него неоднозначен. Все познается в сравнении, в том числе и осмысляемая нами сейчас проблематика.
То же самое и с театром как видом искусства. Традиционно театр считается элитарным явлением, но в то же время далеко не все постановки можно назвать серьезными и высокоинтеллектуальными. Театр не всегда выполняет просветительские и эстетические функции, так как некоторые постановки ограничиваются сугубо развлекательной составляющей. Как и во многих других областях искусства, в театральной сфере также наблюдается следующая ситуация: театр не только предлагает зрителю интеллектуально и эстетически насыщенный материал, но также потакает вкусам и интересам среднестатистического зрителя[538].
Однако, абстрагируясь от искусства в целом и его видов и обращая свое внимание на конкретных авторов конкретных произведений, имеет смысл снова вспомнить понятие М. Фуко «основатели дискурсивности». Это понятие выражает некую абсолютизацию автора, его причастность не только к написанию своих собственных творений, но ко всей дискурсивности в целом. Основатели дискурсивности – это сверхсубъекты, это производители революции в какой-то сфере культуры (в искусстве, в науке, в философии). Они не только создали возможность формулировки новых внутридискурсивных законов и правил, но и создали возможность теорий, отличных от тех, которые они установили. Из всего сказанного следует вывод о том, что функцию автора нужно рассматривать не только на уровне книги или нескольких книг, обозначенных одной фамилией, но и на более масштабном уровне больших групп разных текстов или целых дисциплин. Соответственно, эти самые основатели дискурса благодаря своим новациям занимают наивысшее положение в уровневой модели культуры. Причем совершенно неважно, какой именно жанр является их изобретением – будь то детектив в литературе, дадаизм в живописи, heavy metal в музыке.
В общем, мы приходим к выводу, согласно которому классификация явлений искусства носит относительный характер, и далеко не всегда мы можем конкретный продукт культурной деятельности человека атрибутировать с конкретным уровнем массовой культуры. Несмотря на то, что такой классификации в отдельности поддаются как сами произведения, так целые жанры и виды искусства, для обоснования непротиворечивых выводов необходимо исходить из какой-то единой точки отсчета – виды искусства, жанры определенного вида или произведения, характерные этому жанру.
3. Массовая культура и субкультуры: соотношение общего и частного
Одна из главных характеристик культурного пространства современного российского общества – большое разнообразие субкультур. Поскольку социум является разношерстным, состоящим из людей, обладающих разным уровнем образования, разными интересами и ценностями, вполне закономерным образом рождаются всевозможные субкультуры, многообразие которых и составляет конструкт, называемый культурой в целом. Современная культура – а вместе с тем и массовая культура – это архипелаг сообществ, взаимосвязанных или равнодушно существующих по отношению друг к другу, часто просто не воспринимающих, не видящих друг друга, а иногда и враждующих между собой. Происходит усложнение социальной организации, что обусловлено интенсификацией культурных связей и обменов и ростом культурного (а следовательно, субкультурного) многообразия. Появляются новые культурные тенденции и явления, которые не сменяют, не замещают предшествующие, а находят место рядом с ними, тем самым углубляя социально-культурную комплексность, усложняя социокультурную систему, но вместе с тем привнося в нее темпоральную рассогласованность, что выступает источником потенциального общественного напряжения. Социально-культурное пространство нестабильно, так как наполняемые его учения и идеологии находятся в конфликте, пусть даже в большинстве случаев эта конфликтность носит неявные формы. Культура становится полистилистичной: она как таковая утрачивает целостность, единство, и наполняется взаимодействием различных знаков, символов, образов жизни, традиций, что мешает ориентации на стабильные культурные образцы.[539] Как массовая культура заимствует в субкультурах какие-либо элементы, так и субкультуры берут что-то от массовой – и при этом некоторые из них стремятся отгородиться от нее, выйти в потустороннюю область и даже позиционировать себя как анти-массовые.
Многообразие субкультур указывает нам на гетерогенность культурного пространства современной России, его неоднородность и неоднозначность, на определенный выбор. А чем богаче культура, тем разнообразнее варианты предоставляемого ей выбора, но и тем выше уровень ее рассогласованности. «Мультикультурализм, являясь сложной многокомпонентной социальной системой, представляет собой культурное полицентрическое образование – матрицу субкультур, каждая из которых не является центральным ядром системы»[540]. Мультикультурализм, благодаря своей принципиальной децентрированности, предполагает отсутствие авторитарного внутреннего начала, которое могло бы занять роль центра и тем самым потянуть культурное одеяло на себя. Субкультурация и связанная с ней фрагментация культурного пространства ставит крест на выделении [господствующей] культурной парадигмы. Хотя внутри любого мультиобразования, внутри любой плюральной системы все-таки существуют более сильные и более слабые элементы, одни из которых могут претендовать на роль центра, а другие – на роль периферии, одни – на роль лидера, а другие – на роль маргинала. В потенциальном смысле любая система идей, любая идеология, любая культурная традиция претендует на привилегированный статус общественной доминанты, поэтому вполне могут существовать внутренне плюральные системы ценностей, но едва ли мы найдем возможность присутствия внешне плюральных систем; практически любая система наличествующего оппонента воспринимает именно как оппонента. Основное свойство любой идеологии – стремление ее носителей распространять идеологизированные концепты за пределы той системы, которую данная идеология уже охватывает.
Таким образом, внутри каждой идеологии кроется зародыш глобализации, который может вырасти до такого уровня, что подомнет под себя все остальные – конкурирующие – системы идей и сядет на главенствующий идеологический престол. Под словом «идеология» в данном случае мы понимаем не только внутреннее содержание какого-либо субкультурного явления, но содержание любого светского или духовного учения – религиозного или политического [хотя довольно часто они выступают в нераздельном единстве]. Если мы возьмем во внимание любую из мировых религий и обратимся к ее истории, то с неизбежностью придем к выводу о ее глобализационной направленности. Как буддизм, ислам, так и христианство пытались занять как можно больший территориальный ареал и, соответственно, завладеть умами и телами как можно большего количества людей. Зачастую для этой цели использовались военные средства. И по мере развития каждой из этих религий происходила консолидация не только отдельных людей, но целых этносов под флагами того или иного учения. А если учение как совокупность совершенно различных идей и ценностей – религиозных, нравственных и моральных – в потенциальном смысле хранит в себе (а любое учение хранит) стремление к расширению, то оно может стать мощным консолидирующим инструментом, а значит, фактором искусственной глобализации. Поэтому в некотором роде глобалистами мы можем назвать всех, кто пытался расширить горизонты бытия «своего» народа, «своей» империи, «своей» системы ценностей – Агамемнона, А. Македонского, Мухаммеда, татаро-монгольских ханов, Наполеона, К. Маркса, В. Ленина, Б. Муссолини, А. Гитлера и многих-многих других.
И если мы можем говорить про современный масскульт как относительно плюральный, то, оппонируя самим себе в идее его плюральности, следует обозначить некоторые очаги сопротивления либерализму и свободе слова опять же во многих явлениях китча, навязываемых культурой потребления, манипулирующей модой и рекламой, и в массовой тотализирующей политике, исходящей из политического центра – правящей партии. В то же время частичный плюрализм достигается за счет существования очагов сопротивления этим тотализирующим тенденциям. Мулитикультурализм состоит из множества ядер, за счет явленности которых оправдывает себя приставка «мульти». И – что самое примечательное – практически каждое ядро пытается навязать свою систему идеалов и ценностей как можно большему количеству людей, организаций и других культурных ядер. Весь этот процесс напоминает фукианский взгляд на власть, которая исходит отовсюду, а не из единого строго локализованного центра. Такая конкуренция может привести в конечном счете или к появлению центра, статус которого займет наиболее сильное ядро, или же к некоей ассимиляции и стиранию принципиальных различий; плюрализм как совокупность различных точек флуктуации в системе иногда приводит к реорганизации системы, а значит, к самоисчезновению, так как он не может характеризоваться полным равновесием и равносилием всех элементов по отношению друг к другу. Энтропия растет, и сосуществование различий предполагает различные конфигурации реальности. Наличие разных субкультур указывает на «как бы» плюральность, но фраза «как бы» означает здесь не эквивалент слова «псевдо», а скорее эквивалент слова «относительный».
Плюрализм – это не то чтобы мифологема, но крайне неустойчивая система, в чем и заключается его недостаток. В любую минуту плюрализм может сменить новый монизм, демократию – тоталитаризм. И такая ситуация возможна не только внутри одной страны, но и на мировом уровне.
По мнению А. В. Костиной, массовая культура должна стать механизмом, элиминирующим напряженность и рассогласованность, осуществить циркуляцию смыслов между различными субкультурами, защитить общество от распадения и сформировать основные каналы коммуникации[541]. Однако здесь мы сталкиваемся с диалектическим противоречием. Если массовая культура действительно должна осуществить названные функции, не придет ли тогда культура в состояние однообразия, так как примирить между собой многие субкультурные явления не представляется возможным кроме расширения одних за счет уничтожения других? Не приведет ли это к господству какой-либо одной субкультуры, которая тогда займет трон доминирующей идеологии? Если мы согласимся в данном случае с А.В. Костиной, то неизбежно примем позицию, согласно которой массовая культура – не широкое явление, а всего лишь культурная область, занимающая место «золотой» середины и посредством этого примиряющая различные субкультуры между собой; такое понимание близко к тому, которое мы придали мид-культуре, упрощающей наследие высокой культуры для его максимально доступного восприятия и осмысления массами. А таковая позиция во многом противоречит той, которой мы придерживались на протяжении всего повествования – массовая культура не может быть (по крайней мере, сейчас не является) знаковой системой, равно доступной всем членам общества независимо от их социального статуса, профессиональной принадлежности, специфики вкусов и пристрастий и степени развития интеллекта. Конечно, вбирая внутрь себя различные явления, она осуществляет взаимообмен смыслами и ценностями между ними, создавая тем самым состояние взаимопонимания между представителями разных субкультур. Но этот процесс затрагивает далеко не все субкультурные явления в равной мере, так как некоторые из них занимают маргинальное положение, будучи почти забытыми и маловостребованными, а некоторые – снова подчеркиваем этот факт – находятся в диалектическом противоречии, что говорит о практической невозможности их примирения и выработки общности картины мира.
А вообще, возникает ли необходимость их примирять и унифицировать культурное богатство? На этот вопрос мы не решимся дать однозначный ответ, поскольку как предельная гетерогенность, так и тотальная гомогенность негативно сказываются на общественном субъекте. В первом случае богатство культуры создает противоречивость и разорванность бытия для субъекта и выливается в борьбу ее разных «наследий», а значит, и в борьбу носителей этих наследий. Во втором же наступает культурная тотализация, а вместе с ней и идеологическая, так как степень культурной свободы непосредственным образом связана со степенью идеологической свободы; трудно вспомнить какую-либо историческую эпоху, когда культура отличалась особым богатством, широтой и изобилием, но идеология была тотальна в своей узости и едина для всех, равно как сложно реставрировать в памяти обратную ситуацию культурно-идеологического состояния.
Отмечается, что американская популярная культура возникла как раз благодаря разнообразию культурных традиций и необходимости поиска общего для них языка, способного преодолеть разноречие этносов[542]. Россия – тоже многонациональная страна, и по критерию разнообразия традиций она близка к Америке. Но в данном случае не стоит путать понятия популярной и массовой культуры; первая – частное проявление второго, нечто действительно усредняющее, складка, локализованная строго посередине общекультурного материала, пытающаяся притянуть к себе, к центру, все культурное наследие периферии. Отчасти ее можно синонимировать с тем, что мы называем мид-культурой, но масскульт выступает все-таки более широким явлением, включающим эту складку внутрь себя.
В современной культуре едва ли возможно проследить какую-либо одну доминирующую ветвь, наиболее выделяющуюся среди всех остальных явлений культуры. Эти субкультурные явления можно уподобить так называемым дискурсивным практикам, и определенное число индивидов, относящихся к той или иной культурной традиции, выражаясь словами М. Фуко, определяют свою сопринадлежность через обобществление одного и того же корпуса дискурсов[543]. Они признают и принимают единый комплекс норм, правил и вкусов, свойственный данному дискурсивному пласту культуры. Какая-либо дискурсивная практика есть не только фактор образования культурной связи между индивидами, но и основание для их культурной идентификации. «Мы – реальные пацаны, – говорят гопники, -– так как мы уважаем шансон и живем по понятиям». В этом утверждении как раз прослеживается приверженность к некоему дискурсивному пласту культуры, где местоимение «мы» означает коллективную принадлежность к чему-то одному, а также в нем может быть заключено противопоставление по отношению к некоему «они», которыми выступают представители других субкультур, имеющие мало общего с данной субкультурой: рокеры, интеллектуалы, эстеты. Одна и та же культура позволяет многим людям сказать «мы».
Имеет смысл поставить вопрос о сопричастности и соотнесенности дискурсивных пластов, о том, как они могут сосуществовать радом друг с другом. Подобно фукианскому рассмотрению дискурсов как прерывных практик – перекрещивающихся, соседствующих друг с другом и вместе с тем исключающих один другого – поле существования субкультур также характеризуется процессами пересечения и исключения. Так, трудно провести четкую грань между культурой битников и хиппи, поскольку их идеи очень близки. Однако панк противопоставляет себя всем возможным культурам (и всей массовой культуре в целом), тем самым проявляя попытки их исключения. Также в кардинальном противопоставлении и взаимоисключении находятся идеи глобализма и антиглобализма, национализма и интернационализма.
Любому человеку присуща потребность к принадлежности чему-либо, какой-то общности, которая чем-то отлична от других общностей. Если раньше реализацией чувства общности выступали национализм (национальная идентичность), расизм (расовая идентичность), то сейчас – в информационном обществе, по мнению Барда и Зондерквиста, виртуальные субкультуры заменяют собой феодальные деревенские общины и капиталистические национальные общности, приводят к исчезновению государственных границ, но и к установлению новых границ между различными сообществами[544]. Собственно, появление новых сообществ знаменует собой появление новых границ. Но мы не согласимся с авторами в том, что государственные границы исчезают, а национализм не имеет будущего; такое утверждение, особенно принимая его футурологический аспект, весьма спорно. Скорее наоборот, если говорить не о реальном географическом положении дел, вызванном глобализацией, а о ментальной самоидентификации индивидов с какими-либо сообществами, прежние границы остаются, в том числе государственные, национальные и расовые (о чем говорит существование националистов и расистов в наше время), но к ним добавляются новые за счет появления новых сообществ и, соответственно, субкультур. И вполне возможно, что в глобальном обществе будущего, охваченного политикой единого мирового правительства, еще останутся очаги национализма или национального традиционализма, сопротивляющиеся культурно-национальной унификации.
Известно, что в современном обществе, наполненном множеством практик социального поведения, формируется мозаичное сознание индивидов, что приводит к отсутствию целостного представления субъекта о самом себе. То есть, гиперплюрализм, с одной стороны, дает субъекту многообразие вариантов для самоидентификации, с другой же, затрудняет возможность обрести субъектную целостность – единую и непротиворечивую картину мира. Примеряя множество масок, ролевых моделей поведения, субъект успешно адаптируется в социальном пространстве, становится «многофункциональным», но вместе с тем его расщепленное эго более похоже на набор субличностей, которые взаимодействуют друг с другом согласно принципам как сосуществования, так и борьбы. Таким образом, субъектность расширяется по горизонтали, охватывая все больше и больше идеологий и поведенческих норм, но вместе с тем уничтожается как целостное явление.
Может быть, из-за неопределенности сущности культуры вообще, из-за ее такого ризоморфного характера возникают различные субкультурные явления, ни одно из которых не имеет право на более привилегированное существование по сравнению с другими. Так, в классическом понимании массовая культура противопоставляется элитарной, но противодействующий всяким противопоставлениям постмодернизм стирает демаркационную линию между ними, объявляя массовой культурой одновременно все и ничего. Так же как все стало эстетично, сексуально и политично, в то время как эстетики, сексуальности и политики как отдельных областей уже не существует, и они друг в друга перетекают и сливаются одно в другое в ситуации «после оргии»[545], также и массовое становится элитарным, а элитарное – массовым. Если каждая группа начнет использовать свой собственный язык, у каждой профессиональной сферы появится свой код или система кодов, а каждый отдельный человек станет отделенным от окружающих языковым островом, возможность любой лингвистической нормы, от имени которой можно было бы говорить о разделении [на нормальное и ненормальное], просто исчезнет[546]. Но нельзя сказать, что гетерогенность заходит настолько далеко…
Как мы уже говорили, оказывается трудным прочертить грань между уровнями массовой культуры, а также если арт воспринимается как высокое (искусство, наука, образование и т.д.), то снова снимается противоречие между массовой культурой и элитарной. Теперь масскульт плавно переходит в элитарность, и точкой их соприкосновения и сопричастности выступает арт, но при этом возникает закономерный вопрос о принципиальном отличии арта как уровня масскульта от элитарной культуры. Или же, глядя на эту концепцию, можно смело констатировать отсутствие между ними каких-либо отличий, что снимает вопрос их соотношения и постмодернизирует данную позицию.
Представляется, что выделять бинарность массовая-элитарное возможно лишь в том обществе, которое действительно разделено на два класса. Причем это деление может производиться как согласно социальному критерию (престиж, материальное состояние, общественный статус и т.д.), так и собственно культурологическому (уровень культурного – интеллектуального, нравственного и т.п. – развития). Но поскольку современное российское общество не в полной мере поддается такому четкому делению, не имеет смысла вводить бинаризм при рассмотрении вопроса о культуре.
По нашему мнению, все нынешнее культурное пространство более целесообразно представить не как оппозиция массовое-элитарное, а как совокупность субкультурных явлений (культур в культуре), сосуществующих друг с другом. Что же касается деления культуры на вышеописанные три уровня, в таком случае необходимо определиться с критерием, согласно которому данное деление производится. Мы выдвигаем в качестве такого критерия субъектность как основную психологическую характеристику человека, объединяющую в себе такие качества, как осознанность (рефлексия), целостность (четкость и устойчивость мировоззрения) и самодетерминированность (способность управлять собой вместо того, чтобы отдаваться во власть внешних обстоятельств). Таким образом, низким уровнем культуры обладает та область, которая порабощает субъекта и разрушает эти его качества, средним – та, которая его сохраняет и дает возможность к потенциальному развитию, высоким – та, которая создает условия для его развития. Каждая субкультура представляет собой определенный социальный элемент, отличающийся от других элементов своими ценностями и нормами. И, соответственно, трудно выделить какие-нибудь «общие» для всего современного социума нормы и эталоны, которым не было бы отказано в доступе при проникновении в любые субкультурные явления и которые равнозначно принимались бы представителями всех субкультур. Е.С. Валевич выражает эту мысль следующим образом: «Если ранее кто-то или что-то выступало в качестве эталона, и этот эталон навязывался непосредственно массовому обществу, то сегодня происходит тщательный анализ (обработка) самого эталона, он модифицируется в массу «вторичных эталонов», предназначенных для разных групп общества. И тиражирование этих эталонов в дальнейшем осуществляется уже в каждой определенной группе, а не всего общества. Таким образом, массовая культура на новом этапе массовизации создает не один, а множество эталонов» [547]. Добавим, что это не просто множество, а вместе с тем множество разноуровневых (имея в виду уровни массовой культуры) эталонов.
А если многообразие субкультур говорит о высокой степени гетерогенности общества, то следует согласиться с мыслью А.В. Костиной, которая утверждает, что сегодня специфику массовой культуры определяют процессы демассификации, дестандартизации и персонализации[548]. Однако всегда ли это так? Конечно, общество в целом теперь не подчинено строгим правилам и запретам, характерным для тоталитарных режимов, но вместе с тем эта тотализация субъектности может иметь место на локальном уровне – внутри не массовой культуры как таковой, а внутри какой-либо субкультуры в отдельности. Например, широкое распространение так называемых тоталитарных сект вряд ли можно связать с культурной демократизацией и персонализацией; скорее наоборот, растущее сектанство связано с неопределенностью самоидентичности современных людей, с размытостью идеалов и ценностей, с характерным для сегодняшней России процессом отчуждения и, конечно же, с социальной напряженностью, вызванной многими причинами – от бедственной экономики, повально нарушающего узаконенные в Конституции человеческие права и свободы правительства, терактов до предельно напряженного и ускоренного уровня жизни, которым отличается нынешнее постиндустриальное общество в целом и почти каждый индивид в отдельности. Все эти явления несут определенный негатив, субъективно переживая который, индивид, разочаровавшийся в правительстве и во многих официальных общественных институтах, пытается найти себя «по ту сторону» – в сектантстве, молодежных неформальных движениях и т.д. Раньше была одна деперсонализирующая культура – советская, а теперь их много. Кроме того, всегда есть куда пойти и к кому примкнуть, поскольку в плюральной [или околоплюральной] культуре существует неплохой плацдарм в виде растущих [или выросших, так как росли они в девяностые годы] как грибы после дождя культурно-религиозно-идеологических сообществ. Конечно, далеко не всем из них можно придать такую мрачную окраску, но тем не менее некоторым из них она к лицу.
По замечанию Э. Тоффлера, благодаря субкультурам, в которые мы – осознанно или нет – входим, формируются наши индивидуальности[549]. Однако эта фраза представляется весьма спорной, так как можно утверждать и обратное: благодаря субкультурам наши индивидуальности уничтожаются. Нельзя сказать, что какое-то из этих утверждений верно, а какое-то нет; скорее, они взаимодополняют друг друга, тем самым подразумевая наличие как положительных для индивидуальности субкультур, так и отрицательных. Понятие «индивидуальность», о котором говорит Тоффлер, мы заменим на «субъектность», являющуюся предметом нашего изучения.
Итак, все разнообразие субкультур, в которые каждый из нас входит, можно разделить по степени их влияния на субъектные качества. Но для начала необходимо перечислить хотя бы несколько из них. В основном субкультуры воспринимают именно как политико-идеологические молодежные течения, хотя на самом деле термин «субкультура» может быть применим к любой сфере человеческого бытия.
Так, субкультурами являются такие молодежные движения, как хиппи, панки, рэперы, скинхеды, эмо, готы и прочие. Кроме того, выделяются субкультуры, отражающие профессиональную принадлежность входящих в них людей: милицейская, врачебная, научная и т.д. Субкультуры, связанные с интересами в области литературы: любители фантастики, детективов, классики, фэнтэзи (к последним можно причислить толкиенистов, хотя их сообщество связано не только с чтением соответствующей литературы, но ее содержание определяет весь их образ жизни). Религиозные организации тоже можно назвать субкультурами, так как они имеют свои, отличные от других, традиции и ценности и тоже стремятся к объединению людей. В общем, учитывая классическое разделение культуры на такие элементы, как религия, искусство и наука, внутри каждой из них мы можем найти наличие специфических субкультурных явлений. К этим элементам можно добавить еще быт как наиболее широкую область, включающую в себя сферу труда и досуга – повседневности.
Но остается неясным вопрос: как субкультура, в которую вовлечен человек, может оказывать влияние на его субъектные качества? Рассмотрим это на примере панк-движения.
Панк-движение изначально представляло собой нонконформистское явление, попирающее общественные нормы и правила и выступающее против мещански-меркантильного образа жизни так называемого среднего человека, обывателя, массы. Панк критиковал массовую культуру и все с ней связанное и противопоставлял себя масскульту как нечто альтернативное.
Однако можно ли рассматривать панк и массовую культуру, особенно самые низкие ее явления (китч), как абсолютно противоположные? Мы склоняемся к отрицательному ответу на этот вопрос – панк, по существу, есть одна из составляющих китча. Он, как и некоторые другие [преимущественно молодежные] субкультуры, хоть и чувствовал себя вне-массовым и контр-культурным феноменом, по существу все равно интегрирован в масскульт, оставаясь его подсистемой.
Считается, что панк появился на рубеже 60-х – 70-х годов ХХ века. Но есть и другое мнение, согласно которому появление этого движения уходит корнями в античность, а именно в философское учение кинизма. Но мы рассмотрим панк в его современном понимании, оставляя в стороне вопрос о взаимосвязи с его древнегреческим предшественником. По поводу этой взаимосвязи скажем только, что панк – не развитый вариант идей киников и анархистов, а скорее наоборот, выхолощенное явление. Если у названных идейных предшественников панка были достаточно хорошо обоснованные (пусть и утопичные) философские взгляды, то панк оставил себе прежде всего эпатаж и эксцентризм, не став утруждать себя созданием четкой идеологии. Панк не смог выработать какой-либо передовой теории, да и смешно от него это требовать.
Основной принцип панк-культуры – негативное отношение к материальным благам, к карьерному росту, статусности и общественному признанию, – всем тем мещанским и обывательским ценностям, которые культивируются сегодня в культурной среде (особенно молодежной). Однако, если обратиться к анализу образа жизни панков и качеству их музыкальных творений, мы придем к мнению о том, что панк и современный китч не имеют принципиальных отличий.
Образ жизни панков отличается такой же бездуховностью, как и образ жизни современной массы. Панк циничен, антиинтеллектуален и несерьезен. Вполне правомерно было бы сравнить его с детским инфантилизмом и незрелостью. Собственно, панк – это игра, это жизнь, внутри которой нет труда, нет эстетики, нет стремления к духовному и интеллектуальному развитию. Есть только эпатаж.
Панк-идеология предельно проста. Следуя ей, человек, как он думает, противопоставляет себя модным тенденциям современной массовой культуры, хотя на самом деле, ратуя против моды, его поведение во многом от нее зависит. Ему неважно, что из себя эта мода представляет, на какие продукты культуры и искусства прослеживается наибольший спрос. Главное – противостояние большинству. Однако если панк противостоит этому большинству, он не может претендовать на индивидуальность, на подлинную субъектность, так как он вместе с тем зависит от этого самого большинства. И эта зависимость прямая. «Если сегодня все следуют жизни по сценарию «получить образование и устроиться на высокооплачиваемую работу, то я этого делать не буду», - думает адепт панк-культуры. Но если завтра мода изменится, и большинство уже будет придерживаться совершенно другого образа жизни, панкам придется менять свою идеологию, чтобы противостоять новым тенденциям моды. В этом и заключено отсутствие четкой позиции, устойчивого мировоззрения. «Я всегда буду против», – пел Е. Летов, и эта фраза вполне отражает «идеологию» панка, которая по сути представляет из себя борьбу «знаем с чем, но не знаем во имя чего». Выражаясь языком нейролингвистического программирования, тут наиболее подходящим будет фраза «движение от чего-то», а «не движение к чему-то». Соответственно, позиция панков зависит от чего-то внешнего, и это внешнее (массовая культура) формирует данную позицию. Здесь будет вполне уместно вспомнить мысль М. Хайдеггера, направленную против людей, не думающих, а «занимающихся философией», «приватное существование» которых, основанное на противопоставлении себя общественному мнению, не есть свободное бытие человека. Оно, питаясь пустым уклонением от всего публичного, находится в рабстве у публичности[550]. Подобную же мысль, логически встраиваемую в контекст интересующей нас проблематики, можно найти в работе И. Жеребкиной, анализирующей творчество Джудит Батлер: «субъект, сопротивляющийся определенным социальным нормам, в то же время является субъектом, произведенным этими самыми нормами»[551]. В общем, философия панка, на поверхности кажущаяся независимой от социальных норм и ограничений, на самом деле обнаруживает свое существование в рабской зависимости от общественного мнения.
Говоря о зависимости, имеет смысл провести аналогию с концепцией потребностей, предложенной Э. Фроммом. Философ, анализируя потребность «связанность с другими – нарциссизм», говорит, что человек часто впадает в одну из двух крайностей – стремление к подчинению и стремление к доминированию. «Человек, движимый любой из этих страстей, в действительности становится зависимым от других людей; вместо развития своего собственного индивидуального бытия он оказывается в зависимости от тех, кому подчиняется, или от тех, над кем господствует»[552]. Таким же образом можно представить не только связку «подчинение-доминирование», но и «следование за модой – отвержение моды». Для полной наглядности имеет смысл к обоим полюсам добавить слово «тотальное» или «абсолютное».
Здесь целесообразно вернуться к модели (адаптация, индивидуализация и интеграция)[553], затронутой нами ранее. Использование этой модели дает возможность проанализировать не только развитие отдельного индивида, но и определенной культуры, в том числе и панк-культуры. Стремление к подражанию является более низшим этапом, чем индивидуализация, и уж тем более чем интеграция. Если при первой стадии (адаптация) ребенок следует принципу «быть, как все» и стандартизируется, при второй (индивидуализация) он действует по принципу отличия, причем иногда жертвуя своими настоящими желаниями и потребностями. То есть, на второй стадии есть только мнимая личностная позиция – позиция «отличаться от всех», которая также зависит от мнения большинства. Синонимом адаптации в данном контексте выступает конформность, а синонимом индивидуализации – негативизм. Конформность - это специфический способ «разрешения конфликта между личным и доминирующем в группе мнением в пользу последнего: зависимость человека от группы вынуждает искать подлинного или мнимого согласия с ней, подстраивать поведение под кажущиеся непривычными или ложными эталоны». Негативизм — утверждение противоположной большинству точки зрения. А третья стадия (интеграция) характеризует сложившуюся личность, обладающую твердой субъектной позицией, не зависящей ни от кого. Но обращая свой взор на панк-культуру, мы можем сказать, что, несмотря на убежденность ее представителей в свободном образе жизни, она тем не менее характеризуется стадией индивидуализации с присущей ей негативизмом. А это не имеет никакого отношения к свободе, поскольку свободное проявление присуще человеку, находящемуся на более высшей стадии – интеграции, которой панк-культура не достигает.
Если обращаться к музыкальному творчеству панков, то нетрудно также увидеть в нем много общего с китчем. Так называемый панк-рок не совсем оправдывает свое название, поскольку он совершенно некачественно сыгран, грязен (в музыкальном смысле) и не отличается высокой поэтичностью (в текстовом смысле) – роком он едва ли может называться. Sex Pistols и Clash получили мировую известность не потому, что высокопрофессионально играли, а, наоборот, потому, что их музыкальный профессионализм оставлял желать лучшего; они стали известными благодаря тому, что были первыми группами, абсолютно не умеющими играть и тому, что внесли в молодежную культуру образ пьяного, грязного и увешанного всяким хламом подобно новогодней елке тинейджера (этакий эффект новизны). Да, это пощечина общественному вкусу, на которую общественность моментально обратила внимание, за счет чего панк постепенно начал становиться массовым. Но такая пощечина выглядит убогой и требует очередной пощечины в свой адрес, со стороны элитарной культуры. Три аккорда, звериный рык – вот и вся музыкальность, вот и вся эстетика, которой в настоящем смысле слова вообще нет. Музыка должна быть профессиональной. Вообще, профессионализм – один из критериев отличия высокого искусства от низкого. Панк-рок же, подобно современной попсе, предельно прост и примитивен – как в музыкальном, так и в содержательном смысле. Единственное его отличие от попсы – революционность (непонятно за что) и «грязность» исполнения.
Конечно, панк-культуру нельзя назвать массовой в прямом смысле слова, но ее можно ей уподобить. Панк считается субкультурой не только из-за своего оппонирования культуре потребления, но и потому, что находит мало приемников; в целом он такой же низкий, бездуховный, антиэстетичный и примитивный, как китч-культура. Однако, при описании панка все-таки не стоит так сильно сгущать краски, поскольку в нем, несмотря на его китчевость, можно увидеть и некоторый положительный момент. Так, панк-культура вследствие присущего ей эпатажа – в первую очередь идеологического свободопроявления – можно рассматривать как инструмент борьбы против тоталитарных режимов, бюрократично-догматичных идеологий и мещанства. Поэтому неуместно в полной мере демонизировать панк-явление подобно всей китч-культуре. В смысле личностного развития оно дисфункционально, но когда мы говорим об обществе в целом, об отстаивании прав и свобод и препятствии тотализации, явление панка вполне функционально, что позволяет частично реанимировать его ценность и эксгумировать части его тела из темного лона китча. Да и есть в нем что-то романтическое, свободолюбивое, пусть и доведенное до почти абсурдного предела.
Вообще, китч как таковой многоаспектен и многогранен, что демонстрируется одновременным сосуществованием разных псевдокультур, одни из которых проповедуют мещанский гламурный образ жизни, гедонизм, глянец и т.д., а другие, наоборот, высмеивают эти ценности, к которым и относится панк. Так что, как и всю массовую культуру, мы не имеем возможности привести китч к общему знаменателю. Естественно, он заслуживает возмущения как проявление бескультурья, но при конкретно содержательном рассмотрении многих его тенденций мы сталкиваемся с проблемой их оппозиционности и идеологической противопоставленности, что не позволяет выстраивать единый и непротиворечивый образ китча как целостного культурного феномена.
Естественно, негативизм как предельная форма противопоставления себя всему обществу в целом может иметь место не только внутри панк-культуры, но и внутри почти любой субкультуры. Равно как одновременно с этим человек может проявлять абсолютный конформизм, по отношению к той культурной традиции, внутрь которой он попал. То есть, с одной стороны (по отношению к «Они») негативизм, а с другой (по отношению к «Мы») конформизм – взаимосвязанные явления, не оставляющие места для субъектности. Но в таком случае имеет значение то, с какой целью человек вступает в некое сообщество. Если он это делает ради слияния с ним, путем которого он убегает от гнетущей действительности, то такая эскапистская мотивация не может быть названа конструктивной. То есть, не все субкультурные явления сами по себе поддаются четкому делению относительно их влияния на субъекта – одни и те же субкультуры могут влиять как положительно, так и отрицательно, в зависимости от целей самого субъекта. Так, при описанной неконструктивной мотивации, которая сама по себе характеризует недостаток развития субъектных качеств, они имеют меньше шансов развиться. При конструктивной мотивации субъектные качества, уже будучи достаточно развитыми до этой конструктивности, имеют стимул в лице стремлений человека и влиянии на него субкультурных традиций, к дальнейшему развитию.
Тем не менее, несмотря на тезис о неадекватности разделения самих субкультур, без учета целей вступающих в них людей, по степени их влияния на субъекта, все-таки можно с уверенностью сказать, что некоторые из субкультур однозначно влияют негативно (или позитивно). Наиболее ярким (и актуальным на сегодняшний день) примером будет являться криминальная субкультура, которая приводит к практически полному регрессу субъектных качеств, изменению ценностных ориентаций, на место которых встают антисоциальные ценности. Культивирование данных традиций через соответствующее искусство – музыку и кино – ведет к увеличению преступности, а также к культурной и интеллектуальной деградации населения.
Положительное влияние могут оказывать, например, профессиональные слеты, на которых люди, общаясь, делятся знаниями и опытом, тем самым обогащая свой профессиональный уровень. Одним из примеров этого могут служить декадники ППЛ (профессиональной психотерапевтической лиги), где люди, обучаясь новому, открывают для себя что-то полезное для их дальнейшего развития как специалистов. Однако профессиональные слеты (и конференции) иногда трансформируются в обычные «тусовки», которые не несут в себе никакого информационного заряда, а действуют на уровне лишь рекреационно-досугового времяпровождения, тем самым умаляя свои положительные влияния на субъекта.
В общем, мы приходим к выводу, согласно которому современную массовую культуру, из-за ее гетерогенности, можно представить как совокупность различных субкультур. Субкультуры (объективный фактор) могут оказывать разное влияние на субъекта – как положительное, так и отрицательное. Но вместе с тем имеют значение не только семантическая составляющая субкультурных явлений – их нормы, ценности и традиции, – но и цели, которые преследует человек, вступая в те или иные движения культуры (индивидуальный фактор). Так, от степени конструктивности целей по отношению к самому себе и своему развитию зависит и характер влияния субкультурного потенциала на субъекта.
Заключение
В ходе исследования мы выделили несколько оппозиций, которые позволяют нам констатировать антагонистическое влияние массовой культуры на субъектность. Представляя массовую культуру не только как иерархию трех уровней, но и как кумулятивное образование, внутрь которого входит пласт массмедиа, который, в свою очередь, вбирает в себя пласт тенденций моды и рекламы, мы можем сделать вывод относительно представленности субъектности внутри каждого их этих пластов. Стоит оговориться, что китч, являясь самым широким уровнем масскульта, поглощает внутрь себя наибольшую часть массмедийности, а значит, и присущих ей тенденций – мид и арт практически лишены массмедийности и соответствующих ей тенденций рекламы и моды.
Первой оппозицией можно назвать диалектичность требований массовой культуры по отношению к субъекту. С одной стороны, она посредством адаптации и социализации формирует субъектные качества, создает препятствия, преодолевая которые, субъект самореализуется. С другой же — она уничтожает субъекта, а невозможность достижения предлагаемых ею идеалов уводит субъекта в невроз.
Второй оппозицией является функциональность/дисфункциональность массовой культуры., Каждая из функций, в зависимости от степени реализации, оказывает определенное воздействие на субъекта – отрицательное или положительное.
Таким же образом и каждый уровень оказывает свое воздействие на субъекта – третья оппозиция. Так, китч ввиду своей низменности и бездуховности уничтожает субъекта, подчиняет его себе и не оставляет ему никакого права на подлинное существование. Субъект китча – это неподлинный субъект, лишенный своих основных качеств – сознательность, самодетерминированность, целостность. Мид и арт, наоборот, если не конституируют подлинного субъекта, то дают ему право на существование и – более того – способствуют его саморазвитию и развитию своих качеств. Если бы мы приняли категоричную точку зрения многих исследователей, настаивающих на однозначно негативном влиянии на субъекта массовой культуры (без разделения ее на уровни), мы также обнаружили бы антагонизм, но проявляющий себя не между китчем и артом, а внутри самого китча (в случае принятия такой позиции вся массовая культура свелась бы к китчу). Тенденции китча расщепляют субъекта, тянут на разные стороны иллюзорного бытия, о чем во многом свидетельствуют две следующие оппозиции, одна из которых действует на уровне массмедийности, а вторая – на более конкретном уровне моды и рекламы.
Четвертая оппозиция представлена в виде средств массовой коммуникации (массмедиа), также имеющих двусторонний характер воздействия на субъекта. С одной стороны, он, утопая в ризоматичном пространстве массмедийности, расщепляется, лишается автономии и отдается во власть масс-медиа; с другой же – он социализируется, вступая в коммуникационные процессы с другими людьми, населяющими данное социально-культурное пространство.
Пятая оппозиция представляет собой характер влияния на субъекта моды и рекламы как тенденций массмедийности. Опять же наблюдается двустороннее влияние, согласно которому мода и реклама одновременно подчиняет себе субъекта, лишая тем самым его своей сущности, но и обеспечивает его процесс вхождения в социальную среду.
Хотя мы говорим здесь о двухстороннем влиянии массовой культуры и ее тенденций на субъекта, в ходе всего повествования мы обращали свой взор именно к китчу, рассматривая массовую культуру несколько односторонне. Поскольку китч – самая широкая область масскульта, обладающая вместе с тем самой сильной проникающей способностью, он, по нашему мнению, заслуживает большего внимания, чем другие уровни массовой культуры. И, несмотря на обращенность в основном только к китчу, результаты исследования позволяют нам констатировать двойственный характер влияния массовой культуры на субъекта и однозначно негативный характер этого влияния китч-культуры.
Таким образом, внутри массовой культуры субъект представлен в шизофренически расщепленном состоянии. Его тянут как по вертикали (уровни), так по горизонтали (массмедиа). Если вертикаль – это иерархия, то горизонталь – это ризома, на которой царит множество сообщений и призывов различного характера. Каждая область – как вертикаль, так горизонталь – расщепляет субъекта.
Исходя из всего нашего исследования, можно заключить, что на каждом уровне массовой культуры существует свой субъект, обладающий своими субъектными качествами, которые, в свою очередь, образуют модусы субъектности – детерминированность, сознательность и целостность. Однако отличие между этими субъектами заключается в том, что субъекты нижних уровней имеют недостаточно высокое развитие своих субъектных качеств, чем субъекты высших уровней.
По нашему мнению, для повышение общего культурного уровня, то есть для развития мид и арт культуры, необходимо создать ситуацию, согласно которой массмедийность будет фигурировать и на этих уровнях, не упраздняя и не редуцируя культурный потенциал последних; когда массмедиа будет проходить не только через тело китча, но и через душу мид и арт-культуры, она приобретет уже более позитивный смысл и в некотором роде перестанет быть самой собой. Ведь реклама, фигурируя в основном внутри китча, обнаруживает свое однообразие. Если реклама (с более человеческим и менее манипулятивным и суггестивным лицом) будет иметь место и на других уровнях масскульта, она поспособствует процессу окультуривания и либерализации, что, возможно, повлечет освобождение субъекта от узости низкопробной продукции. Кроме того, повышение уровня образования и воспитания имеет также огромное значение, поскольку редуцированные формы просветительской деятельности едва ли могут способствовать становлению подлинного субъекта и повышать общекультурное наследие.
Научное издание
ИЛЬИН Алексей Николаевич
СУБЪЕКТ В МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ
(на материале китч-культуры)
Монография
Компьютерная верстка О. Князевой
Подписано в печать 09.12.2010.
Уч.-изд. листов 17,95.
Формат 60х84/16.
Тираж 120 экз.
Издательство «Амфора»
644001, Омск, ул. Лермонтова, 93
Тел./факс: (3812)56-31-28
e-mail: amfora2002@inbox.ru