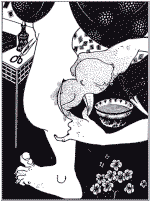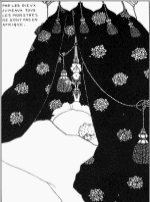|
Декаданс
Камилла Палья
Декадентское искусство
Палья
К. Личины сексуальности. -
Екатеринбург: У-Фактория; Изд-во Урал. ун-та, 2006, с. 624-643
В последние
десятилетия XIX века сексуальные личины декаданса заполонили литературу и
искусство. В 1893 году Альбер Семен* публикует стихотворение, приветствующее
наступление «эры Андрогина», быстро, как Антихрист, завоевывающего культуру.
Отвергающий секс декадентский андрогин — аполлоническое существо, потому что он
противостоит природе и потому что он наделен высоким интеллектом — западная
черта. Он скорее хмур и нервен, чем лучезарен. Колетт называет этот тип
андрогина «тревожным и замаскированным», вечно печальным, следующим «своему
серафическому страданию, мерцанию своих слез»1. Вот так и Юнг
усматривает в женственной голове Митры или Аттиса из Остии «сентиментальное
отречение», пассивную жалость к себе 2.
Вопреки мнению некоторых феминисток, андрогинность — не решение всех
человеческих проблем. В «Машине времени» (1895) Г. Дж. Уэллс предвидит опасности
массовой андрогинности. Общество поляризуется на рабочий класс, омерзительных
подземных морлоков, и праздный класс, женоподобных элоев, прекрасных,
-----------------------------
* Альбер Семен (1858—1900) — французский поэт,
первоначально близкий символистам, но всегда испытывавший сильное влияние
«парнасцев», основатель «Меркюр де Франс».
625
слабых и апатичных. Элои, или жители Верхнего Мира, — аполлонические
эстеты-паразиты, изгнанные из производительной хтонической сферы, захваченной
грязными утилитаристами. Путешественник во времени Уэллса вначале восхищается
андрогинностью элоев, но затем их вырождение вызывает в нем отвращение.
Современный андрогин, стремящийся только к самореализации, теряет спенсерианскую
энергию противостояния и конфликта.
На долю декадентского искусства выпала судьба, схожая с судьбой
академической салонной живописи, стертой с лица земли триумфом авангарда и
модернизма. Последние двадцать лет увидели международное возрождение сюжетной
живописи. Музеи сдувают пыль с вытащенного из запасников хлама. И сегодня нам
остро необходим пересмотр истории искусства, который позволит признать, сколь
многое в авангардистском искусстве в действительности было декадентским поздним
романтизмом: многое в творчестве Уистлера и Мане, все в творчестве
Тулуз-Лотрека, Мунка и Гауди и даже «La Grande Jatte» Сера с ее декадентской
неподвижностью и клаустрофобией.
Декадентское
искусство — искусство ритуалов и богоявлений. Его содержание: романтические
личины сексуальности, властители, идолопоклонники и жертвы демонической природы.
Даже иллюстрируя поэтические эпизоды, декадентское искусство никогда не делает
обыкновенных иллюстраций. Оно драматизирует господствующий западный образ и
сексуальное подчинение агрессивному взгляду. Декадентское искусство враждебно
притязает на зрителя. Стиль декадентского искусства — языческое зрелище и
языческая похвальба. Даже за самой заурядной декадентской живописью скрываются
сложные романтические взгляды на природу и общество, неизвестные учебникам по
живописи XIX века. Роль модернистских культурных героев, например Сезанна,
сильно преувеличена. Прямота и «честность» Сезанна, непритязательные
протестантские ценности, соответствуют линии Руссо и Вордсворта. Декадентское
искусство, как Контрреформация эпохи барокко, безудержно лжет. Творчеству Данте
Габриэля Россетти, Эдварда Берн-Джонса, Гюстава Моро и Обри Бердсли следует
придать более высокое значение. Несмотря на краткий период популярности в 1960-х
годах, Бердсли, выдающийся художник-график, возмутительным образом отсутствует в
учебных курсах и в коллекциях слайдов американских университетов. Как де Сад, он
подвергнут цензуре либеральных гуманитариев.
626
Основанное в 1848 году братство прерафаэлитов просуществовало лишь пять лет, но
его стиль был впитан искусством и дизайном XIX века по всему континенту.
Вдохновленные Рескиным прерафаэлиты пытались восстановить средневековую простоту
и чистоту, утраченные искусством высокого Возрождения с его языческой роскошью,
типичным представителем которого, как ни странно, для них был Рафаэль. В отличие
от своих последователей-декадентов, они открыто исповедовали общественные и
коллективные ценности. Единственный член братства, демонстрирующий, по моему
мнению, приметы декаданса, — Россетти, в ком сказалась итальянская кровь. Но в
творчестве любого прерафаэлита чувствуется неразрешимое напряжение между формой
и нравственным содержанием.
Изобразительное
искусство прерафаэлитов начинается со страстной, заставляющей вспомнить о Китсе
приверженности к деталям органической природы. Но вместо энергии или
динамического процесса высокого романтизма мы встречаем застой позднего
романтизма. Как маньеризм, искусство прерафаэлитов тревожит отсутствием
художественного фокуса. Вместо того чтобы автоматически направить наш взгляд на
человеческие фигуры, его заставляют блуждать по микроскопическим деталям. Цвет
лишен оттенков и накладывается отдельными клетками, как на византийской мозаике
или в ярких цветных фрагментах Готье. Цветы и травинки выписаны блестяще,
поверхность картины так тщательно проработана, что от прерафаэлитского взгляда
на природу до декадентских ювелирных поделок Гюстава Моро остается один шаг. Все
в живописи прерафаэлитов слишком ясно видно. Все привлекает взгляд, но взгляд
тут застревает. Часть торжествует над целым, оказывая неприятное давление на
зрителя. Неестественно спокойный пейзаж превращается в замершую декадентскую
картину. Залитые солнцем панорамы взяты в декадентскую замкнутость, в
спенсерианскую укрытость. Даже прославляя, живопись прерафаэлитов умерщвляет.
Люди и вещи засахарены, мумифицированы, уменьшены.
Прерафаэлиты вновь открыли умершего в безвестности Блейка. Суинберн содействовал
успеху демонической поэзии Блейка, а Россетти — успеху его картин. В 1847 году
Россетти купил тетрадь, где Блейк критиковал светотень и высоко оценивал
«тяжелую и жесткую линию нравственности», аполлонический контур, восходящий, как
я уже показала, к египетскому и древнегреческому искусству и унаследованный
Боттичелли и Спенсером.
627
И Рескин тоже осуждал светотень в искусстве Возрождения. Поэтому острота деталей
в живописи прерафаэлитов — полемический аполлонизм. Мумификация в творчестве
прерафаэлитов — аполлоническая объективация и фиксация и первопринцип
изображения сексуальных личин в творчестве Россетти. В отличие от других
прерафаэлитов, Россетти не любил рисовать пейзажи с натуры и порой в ритуальном
декадентском одиночестве вынужден был восстанавливать их с помощью воображения
на затянутых в черный бархат стенах кабинета.

По мере того как
его карьера шла в гору или, как говорили некоторые, под гору, полотна Россетти
навязчиво возвращались к единственному предмету, к вялой, как сомнамбула,
женщине. Женщина Россетти протестует против викторианской условности, ее
распущенные волосы и бесформенное средневековое платье ниспадают в лирическом
беспорядке. Тяжелая голова царственно склоняется на змеиной шее. Ее длинные
густые волосы — силки La Belle Dame Sans Merci. Припухшие губы, благодаря
творчеству Берн-Джонса и Бердсли, станут общим местом искусства декаданса. Рот
вампира у Россетти говорить не может, но он живет своей особой жизнью. Он полон
кровью жертв. Подобно больной розе Блейка, женщина Россетти окутана тишиной и
влажными, скрытыми желаниями.
Россетти ритуально увековечивает лицо
Элизабет Сиддел,
меланхоличной чахоточной женщины, скончавшейся от передозировки опия вскоре
после их свадьбы. Семь лет спустя он эксгумировал ее труп, чтобы спасти связку
своих стихотворений, которую в романтическом порыве он похоронил вместе с
любимой. Он постоянно рисовал и писал Сиддел и до и после ее смерти. Его друг
Форд Мэдокс Браун записал в дневнике: «С ним что-то вроде мономании»3. Брат Россетти говорил, что «Офелия» Джона Эверетта Миллеса (1852) была самым верным
изображением Сиддел. Только подумайте: Сиддел совершенно не походила на себя на
полотнах Россетти! Такое чувство, что художник находился в рабской зависимости
от Лигейи Э. По, затмившей своим образом образы всех живых женщин. Как Леонардо,
Россетти был зачарован архетипическим оригиналом, вероятно романтической тенью
матери. Уильям Холмен Хант рассказывал, как тот работал с моделями своих поздних
картин: «В наброске лица Россетти стремился превратить черты натурщицы в черты
любимого идеального типа, и если он завершал эти линии, то рисунок оказывался
чрезвычайно
628
пленительным, даже если приходилось изрядно постараться, чтобы увидеть сходство,
в том же случае, когда черты натурщицы не подходили к заранее определенной
форме, он проходил стадию вынужденного искажения линий и размеров, чтобы сделать
рисунок убедительным»4. Одержимость — психическое затворничество, декадентское
искажение реальности. Какие же черты Сиддел вызывали фанатичную преданность
Россетти? Другим ее хрупкость казалась женственной. Но Россетти видел в ней, как
его великий тезка Данте — в Беатриче, гермафродическую холодность прекрасного
юноши, жестокое совершенство солипсистской красоты. Из угрюмой девочки-мальчика
Элизабет Сиддел превращается в характерную сексуальную личину декаданса.
Под воздействием поэзии высокого романтизма в творчестве Россетти вновь
всплывает на поверхность остаточное язычество итальянского католицизма.
Романтическая регрессия относит его живопись от прерафаэлитского Средневековья к
языческому прошлому. Саймоне показывает зловещее превращение женщин Россетти в
«идолов»: Венера становится «все более и более азиатской», а его грезы наполняет
«мертвенно-бледная, призрачная, мрачная и невнятная угроза»5. Возвращаясь
вспять, к Кибеле, Россетти демонизирует средневековое почитание женщины и
сменяет английский высокий романтизм на поздний. В согласии с Суинберном он
утверждает всемогущество женщин. Сонные вампиры его поздних картин холодно
безразличны по отношению к уже напитавшей их мужественности. Россетти постепенно
облекает худощавую Элизабет Сиддел тяжелой плотью пострафаэлитского барокко. Он
возмещает отсутствие романтической скульптуры, придавая своим героиням
скульптурную плотность, выражающую скрытое подавление природы прерафаэлитами.
Самый впечатляющий из всех его objets de culte — «Астарта Сирийская».

У мрачной богини и двух ангелов-вампиров одна внешность — сочетание лица Сиддел
и лица Джейн Моррис, по-мужски твердого, если верить фотографиям. Изгнанная
ранними прерафаэлитами светотень вернулась и покрыла мраком сердце и ум.
Россетти и его последователь Берн-Джонс упражнялись в аллегорическом переизбытке
— я употребляла это выражение в отношении картины Леонардо «Мадонна с младенцем
и святой Анной». Удвоение женского лица всегда означает кровосмесительный распад
личности, хтонический противоток.
629

Картина «Беседка на
лугу» — это, по моему мнению, созданная
Россетти версия замкнутой «Весны» Боттичелли: одна и та же женщина
сверхъестественным образом распадается на четыре части, меняя лишь цвет волос и
прическу, словно линяющая птица. Отводя свои лица, четыре женщины поют
и танцуют. Эмоционально разобщенные, они уплывают, пересекая поле видимости,
вдаль. Ван ден Берг утверждает, что в XIX веке Я распалось на части,
«умножилось»6. В «Астарте Сирийской» и в «Беседке на лугу» душа дробится на
множество женщин — происходит мазохистское самопреследование со стороны
романтического духа-сестры. Эти отчужденные близнецы направляют свою зловещую
энергию сквозь мертвое пространство позднеромантической материальности.
Россетти трижды повторяет одно и то же лицо в «Тройной розе» и «La Ghirlandata».
Тройственная дева-колдунья Блейка? В «Благословенной деве» появляется одно лицо,
но в разном возрасте. Дрожащие от ужаса любовники пристально всматриваются в
своих двойников на картине «Как они встретили самих себя». Россетти подчеркивает
чрезмерную множественность романтической идентичности. Он представляет
спенсерианскую арену романтического кризиса: природа — луг перед беседкой и
открытый и замкнутый вечный молотильный ток жизни и смерти.
Берн-Джонс унаследовал извращенность Россетти. Мартин Гаррисон и Билл Уотерс
прослеживают истоки гермафродизма в живописи Берн-Джонса до Суинберна и Саймона
Соломона: «Такое двусмысленное толкование полов не представлено ни одной из форм
в искусстве Россетти»7. Но все женщины Россетти — гермафродиты. Вот «Beata
Beatrix» (1863), на которой мертвая Элизабет Сиддел, ясновидящая Беатрис, закрыв
глаза, молится обожествленной идее самой себя. Она похожа на смежившего глаза
андрогинного гермафродита Шелли, шепчущего и улыбающегося самому себе. Как я уже
говорила о Нефертити, беспристрастность или эмоциональная безжизненность в
женщине — маскулинизирующая абстракция. Декадентская андрогинность Сиддел
скрывается в своем солипсистском приюте и в окружающей его сверхъестественной
ауре. Декаданс близок к тупику. Единственная черта Средневековья, сохраненная
Россетти в творчестве позднего периода, — возвышенный Дантов культ мертвой
Беатриче. В сексуальной иерархии «Новой жизни» Данте подчиняется холодной
нарциссической девочке-подростку, что, бьюсь об заклад, никому во Флоренции того
времени не казалось чем-то необычным. Скрытый садомазохизм Данте становится
открытым в творчестве Россетти,
о котором Берн-Джонс говорил: «Габриэль был наполовину женщиной». Западные
художники окружили секс ритуалами, потому что западное искусство превратило в
ритуал природу.
630
Берн-Джонс искусно привносит в увлеченность прерафаэлитов Средневековьем стиль
итальянского Возрождения, прежде всего вдохновленную Донателло аполлоническую
жесткость Мантеньи. Всем его личинам — как мужским, так и женским — приданы
черты Элизабет Сиддел. Он захвачен и насыщен мономанией Россетти. Например,
очевидно, что задумчивый Сэр Галахад (около 1857 года) — Сиддел в образе рыцаря
на коне. Победоносный святой Георгий настолько женственен, что его можно принять
за Жанну д'Арк. В «Персее и Грайях» (1892) девически нежный герой мужественен
гораздо меньше, чем дерзко обманутые им архетипические женщины. У юноши в «Пигмалионе»
то же лицо, что и у девушки в «Данае». Влюбленные «Купидона и Психеи» зеркально
отражаются друг в друге. Октав Мирбо говорит о лицах Берн-Джонса: «Круги под
глазами... единственные в своем роде во всей истории искусства; невозможно
сказать, являются ли они следствием мастурбации, лесбийской связи, обычных
занятий любовью или туберкулеза»8. Эти измученные глаза с черными кругами —
глаза болезненной Сиддел. Косметически пририсованные на лицах героев западных
легенд, они иссушают сам источник мужского побуждения и действия. Рыцари
Берн-Джонса, страдая одержимостью и бессонницей, взирают на упадок культуры.
Транссексуальный мир Берн-Джонса населен одним существом, размножающимся путем
кровосмесительной связи с самим собой. Мы в еще одном приюте позднего
романтизма, лишенном тени под серым небом. Ритуальная сосредоточенность на своих
сексуальных личинах — декадентская замкнутость, отрицающая наше право видеть
другие человеческие типы.


В «Золотой лестнице» (1880) троицы и четверни
близнецов Россетти разрастаются. Мы утопаем в обилии тождественных женщин (всего
их — восемнадцать), клонирующих себя и пресыщающих наш глаз. Избыток красоты
вызывает декадентское несварение желудка. Садомазохистская картина «Колесо
Фортуны» умножает мужчин. Огромная Фортуна поворачивает свое пыточное колесо,
связывая цепью прекрасных юношей, мужеподобных одалисок в напряженном стиле
позднего Микеланджело. Каждый как две капли воды похож на следующего за ним, с
вытягиваемыми в сладострастной муке конечностями.
631
Укрытая в приюте природа Берн-Джонса породила модерн, процветавший с 1880-х
годов до Первой мировой войны. Затем машинная культура четкими геометрическими
линиями превратила органические образы модерна в «арт деко». Так неожиданным
завершением традиции Спенсера, продолжавшейся на протяжении всего высокого и
позднего романтизма, стали Крайслер-Билдинг и Радио-Сити-Мюзик-Холл. Змеящаяся
линия Берн-Джонса восходит к Блейку, и хищные огненные цветы Блейка открывают
скрытый сексуальный смысл арабесок модерна. Многочисленным историям искусства
модерна не хватает психологической проницательности. Двадцать лет назад я была
поражена популярностью искусства модерна среди гомосексуальных мужчин-эстетов,
которым не нужно было возрождать ни его, ни Бердсли, поскольку для них они
никогда и не умирали. В любой звезде, в любом стиле или произведении искусства,
прославленных этими александрийскими гомосексуалистами, всегда присутствует
скрытый гермафродизм. Вот почему искусство модерна — самый бесполый стиль со
времен маньеризма.
Модерн, в отличие от исламской манеры, не назовешь ценностно-нейтральным. Но в
таком случае ничто в искусстве не назовешь ценностно-нейтральным. Стиль — всегда
смутная эманация суждений о природе и обществе. Искусство модерна подсознательно
выражает декадентский взгляд на мир. Комнаты или здания изогнуты ритмами кривых
линий — сексуальное ниспровержение западной энергии, со времен Египта возводящей
свои общественные постройки по устойчивым квадратным параметрам мужской груди.
Основное течение западной архитектуры придерживается рациональной организации,
чуждой индуистским храмам с их лабиринтами-ловушками и облепившими наружные
стены скульптурами. Модернистские комнаты и пещеры Антонио Гауди выглядят
архаично из-за женственных выпуклостей. Искусство модерна активно, но бесплодно.
Листья и лозы, скользящие вверх по воротам, решеткам, фонарям, оконным стеклам и
по переплетам книг, — сад нравственного мрака, джунгли, исправляющие сделанное
людьми. Как и «Наоборот» Гюисманса, модерн показывает абсолютную нелепость и
бездуховность природы, первобытное переплетение проникающего движения растений.
Искусство модерна — пышный, но бесплодный сад. Полнота Китса сохнет и увядает.
Искусство модерна — урожай шипов и колючек. Оно показывает современный город
Содомом, объятым черным пламенем.
632
Оно показывает природу холодной жизненной силой, корчащейся в предсмертных
судорогах. Модерн совмещает примитивное с изысканным, используя декадентскую
технику, изобретенную в искусстве эллинизма и превращенную в жестокую забаву и
игру римскими императорами.
Критики порочат живопись Берн-Джонса, считая ее слишком «манерной». Но таково
элегантное самосознание маньеризма. Даже вкрадчивые японские интерьеры Уистлера
проявляют маньеристскую линейность; его чистая, строгая линия анатомична. С
самого зарождения архитектуры дом и тело уподоблялись друг другу. Крепкая,
грудастая викторианская grande dame* — роскошная софа. Высокая, плоскогрудая
новая женщина прерафаэлитов, похожая на бисексуальную Сару Бернар, — костлявый
стул Макинтоша: родство душ за чашкой чая на шотландском пыточном станке.
Маньеристское искусство модерна отказывается от женской массивности и
сокровенности. Его железные спирали замороженной растительности сводят на нет
плодородную текучесть природы. Его плети — садомазохистская метафора — терзают
глаз. Модерн борется с хтоническим и, подражая ему, стремится силой искусства
придать ему застывшую форму. Искусство модерна - позднеромантический
аполлонический стиль, превращающий вечное движение природы в вечный застой.

Берн-Джонс, основатель модерна, показывает медузоголовую природу во всем ее
подавляющем хаосе. Беспробудно спящие прелестные рыцари «Зарослей шиповника»
раскинулись под стенами замка Спящей красавицы. Сброшенные доспехи
увиты невероятно густыми зарослями ежевики — бот-тичеллиевский частокол сосен
вернулся на средневековый гобелен. Мать-природа победила мужественность. На
величайшем полотне Берн-Джонса «Проклятие исполнилось» Персей становится
Лаокооном в кольцах извивающейся природы. Оформление напоминает
рисованные буквы «Книги Келлз»**, поскольку романтизм — священный текст культа
природы. Персей поглощен изголодавшейся утробой блейковского цветка. Картина
подтверждает, что вьющиеся лозы модерна — абстрактная версия демонической
природы, ставшей агрессивной, чтобы заманивать и душить все человеческое. Медный
змей
--------------------------------
* Знатная дама (фр.). — Ред.
** «Книга Келлз» — обнаруженная в 1541 году в ирландском аббатстве Келлз
древне-ирландская рукопись IX века.
633
Берн-Джонса — завиток металлической конструкции модерна. Металлическая органика
неодолима, в то время как Персей облачен в фантастические зеленолиственные
доспехи. Греческий герой превращается в поросшего листвой рыцаря Артегалла,
возвращающегося в природу. Поэтому в отношении картины Берн-Джонса правомерен
вопрос: есть ли хоть что-то хтоническое в змее, обвившемся с Персеем? Правда
ли, что природа скоро поглотит мужское начало? Легенда гласит: Персей побеждает.
Но на полотне изображен архетипический момент сомнения, охватывающего всех нас в
нашей непрекращающейся борьбе с природой.
Другие прерафаэлиты меньше интересуются проблемами секса и природы. Холмен Хант
иллюстрирует некрофильскую поэму Китса картиной «Изабелла и горшок с базиликом»
(1867), где скорбящая девушка орошает слезами отрубленную голову своего
возлюбленного. Уильям Моррис переносит черты Элизабет Сиддел, ее пухлые губы и
струящиеся волосы в своего «Архангела Гавриила» (1862). Саймон Соломон
переделывает ее облик для полотна «Перед рассветом» (1869): андрогинные брат и
сестра с кожей цвета слоновой кости предвосхищают гомо-эротических эфебов Жана
Кокто. Их смутно ощущаемая кровосмесительная близость сознательно воспроизведена
в образе зачарованных моряков-близнецов, появляющихся в великолепном пип-шоу
Мадонны «Открой свое сердце» (1986), и это во многом подтверждает мою теорию о
симбиозе искусства и порнографии.
Близкий Россетти по духу художник континентальной Европы Гюстав Моро был на два
года его старше. Моро делает с байроническим Делакруа то же самое, что
прерафаэлиты сделали с Китсом: превращает тепло и энергию в застылость и
замкнутость. Статичный, лапидарный ориентализм Моро идет от Флобера, перенявшего
его от Готье. Инкрустации драгоценных камней на его мрачных полотнах —
упомянутый Патером налет возраста и износа. Гангренозные поверхности испещрены
декадентски раздробленными частицами души. Моро замещает органическое
неорганическим, тем самым иллюстрируя бегство эстетизма от текучести. Его
цветистый византийский стиль похож на «черный алмаз» Бальзака — кузину Бетту —
аполлонический кристалл, обросший хтонической тьмой. Крайняя декоративность
искусства поздней поры смягчает напряженные отношения социальной роли и
гендера.
Наружность находится по ту сторону тела и по ту сторону пола. Следовательно,
главные герои Моро — андрогины. Гюисманс в «Наоборот» причислил этого художника
к декадентской традиции, заставив Дез Эссента купить два рисунка из серии «Саломея»,
вдохновившей пьесу Уайльда и оперу Штрауса.
634


Главная тема Моро — роковая женщина: Юдифь, Далила, Елена, Клеопатра, Мессалина,
фиванская Сфинкс. Моя любимая вещь у Моро — написанный блестящим маслом набросок
«Елена у Скейских ворот». Грубые, быстрые мазки предвосхищают
абстрактный экспрессионизм. Кажется, будто прогуливающаяся вдоль высокой
троянской стены гигантская Елена умаляет город. Пустое лицо манекена. Ее одежды
окрашены в малиновые тона. Далеко внизу равнина перед Троей покрыта
бесформенными красными отвалами и курящимися погребальными кострами. Елена
прогуливается, как эффектная дама с бульваров, отводя взгляд, поразивший
цивилизацию, от катастрофы, которую она и вызвала. Гюисманс, по другому поводу
упоминавший «духовный онанизм» женщин Моро, говорит об окончательной версии
картины: «Она стоит на фоне ужасного горизонта, забрызганного фосфором и
закапанного кровью, одетая в платье, украшенное драгоценными камнями, словно
гробница... огромные распахнутые глаза застыли, словно ее сразил столбняк»9.
Елена Моро — жестокий идол языческой природы.
Моро любит андрогинных мужчин Берн-Джонса. Ясон отличается мягким, белым,
безволосым телом девушки и длинными, до плеч, волосами, такими же длинными, как
волосы Медеи. Женскими лицами и волосами и плоской юношеской грудью наделены
поэты Орфей и Гесиод. Но удивительнее всего серия «Поэт и природа» (1894), в
которой прекрасный анд-рогинный юноша, одурманенный, тяжело вступает в глубокую
воду. Над ним возвышается титаническая мать-природа с признаками безумия на
лице. Она держит голову поэта крепко, как мяч для боулинга, и убивая, и
вдохновляя его. Она одета лишь в длинную накидку из разросшегося мха. Леонардо —
предсказатель грозового неба Моро. Место страшной аллегории — все то же мое
хтоническое болото, первичная топь, украшенная испанским мхом и неустойчивой,
плавающей водной растительностью.
635
Символику гермафродизма Моро использует для переработки своих французских
предшественников. Его жесткий, мужественный Иаков борется с беззаботным
длинноволосым ангелом в украшенной драгоценностями тунике и ярко горящем
нимбе, опирающимся, подобно Сарданапалу Делакруа, локтями об утес и апатично
вглядывающимся в пространство. Не заимствован ли этот воображаемый ангел из «Серафиты»
Бальзака? В «Женихах», туго натягивая свой гигантский лук, мстительный Одиссей
безжалостно убивает молодых выскочек, чьи холеные тела представляют андрогинную
версию убитых наложниц Сарданапала. В воздухе парит окруженная сиянием, точно
византийским нимбом, Афина — покровительница Одиссея. Кажется, будто ее выносит
наверх великий змей Эрехтей, фаллически выступающий из-за ее тела.

«Юпитер и Семела» перерабатывает «Юпитера и Фетиду» (1811) Энгра. Массивный
бородатый бог-отец превращается в разряженного индуса, женоподобного,
косоглазого, в солипсистском экстазе. Юпитер — эллинистический Аполлон, грезящий
над своей лирой. Микеланджело, сбривая бороду Христу для второго пришествия,
приукрашивает его, наделяя широкой грудью и героической энергией. Увешанный
драгоценностями и жемчужинами бог Моро — длинноволосая райская гурия. Ужас
Семелы, всем своим крошечным телом соскальзывающей с колен бога, вызван
сознанием неуместности женщины в присутствии такого совершенного божественного
гермафродита. Картину заливает подводный свет, нравственно двусмысленный, как
«падший день» Патера.
Сами по себе прекрасные юноши относительно редко встречаются в искусстве
декаданса. В «Орфее» (1893) Жана Дельвиля голова поэта, оторванная менадами,
плывет на лире к Лесбосу. Оргазм затуманивает его женственное лицо, окруженное
ореолом лунного света и списанное с лица жены художника. Его длинное, чувственно
открытое горло напоминает алебастровую шею Джулиано Микеланджело, один из
отмеченных мной гермафродических тропов. Обратите внимание на романтическую
инверсию ренессансной темы: не герой отрубает голову — голову отрубают ему.
Главная задача декадентского искусства заключается в воспроизведении форм
женской власти. Его тема — иерархическое утверждение, чистое харизматическое
присутствие. Немому иконизму такого искусства больше подходит живопись, а не
литература. Демонические богоявления декадентского искусства — отклик на
нравственную переоценку женщины в культуре XIX века, вызванную утопической
психологией Руссо. Вот почему женщина становится исполнителем приговора
насильственной, первобытной природы де Сада. Большинство таких работ по
композиции не являются формально декадентскими; они одногеройны, в них господствует единственный субъект.
Живопись декадентов — один из самых ярко ритуалистичных стилей в истории
искусства.
636



Декадентский символизм процветал на континенте в 1890-х годах. «Грех» Франца фон
Штука — портрет Евы, иронически улыбающейся зрителю. Мы возвращаемся к
ее пристальному взгляду до тех пор, пока вдруг не замечаем среди массы густых
черных волос, обрамляющих ее белые груди и живот, громадного боа-констриктора,
вперившего в нас свой злобный взгляд. Ева — современная Медуза, носящая боа-змея
как боа-шарф. Фон Штук догадывается о змеиной угрозе, таящейся в любимом Россетти мотиве длинных женских волос. Его «Сфинкс» столь же сенсационен:
свирепая обнаженная женщина простирается, как пантера, животом касаясь ковра. Ее
статная, вызывающе умная голова и пышный торс подражают напряженной позе
мужского Великого Сфинкса. Позади нее — бесплодный пейзаж Леонардо: скалы и
вода. В «Поцелуе сфинкса» полногрудое существо, полуженщина-полуживотное,
пригибает к земле преклонившего колена юношу, проникая своими губами в его.
Гермафродиты фон Штука сохраняют восхитительную красоту женщин, отвергнутую
Гюисмансом из страха нечистоты. Фердинанд Кнопф тоже продолжает традицию Сфинкс,
начатую Бодлером и Моро. Женственное лицо в духе Берн-Джонса и розовый бутон рта
выделяют его Эдипа. Женщины Кнопфа созданы по образу его сестры — отсылающие к
Клейсту романтические кровосмесительные отношения.
|
 |
Сюрреалистические удлинения и вытеснение глубины в «Подношении» (1891) Кнопфа
предвосхищают стиль еще одного декадента и символиста Густава Климта.
Ослепительные византийские поверхности Климт перенимает от Моро. Он открыто
смешивает плоскую мозаику с натурализмом плоти. Иными словами, он сводит воедино
разные фазы истории искусства в декадентском синкретизме, заумном и
клаустрофобном. Климт показывает героев, увязших в мире объектов,
полурожденных-полупоглощенных им. Природа и искусство борются за власть. Его
обнаженная «Саломея» (1909) заимствует жесткое, утонченное лицо у полулежащей
Сфинкс фон Штука. В нижней части видна отрезанная голова Иоанна Крестителя.
Мужчина — заходящее солнце, затмеваемое полной луной женского рока. «Юдифь»
повторяет этот сексуальный образ. Иудейская героиня флорентийского искусства
предстает в виде циничной дамы полусвета с холодным, светским
637
лицом Джоан
Кроуфорд. Улыбаясь, она перебирает пальцами волосы мертвого Олоферна, пародируя
романтическую нежность. Белизна ее открытой груди и живота и дразнящая прямота
взгляда восходят к «Еве» фон Штука. «Афина Паллада» (1898) Климта — одна из
немногих постклассических работ, воспроизводящих воинственную андрогинность
богини-амазонки. Держащая огромное копье Афина облачена в бронзовый шлем,
похожий на маску, из-под которого бесстрастно сверкают ее глаза. На ее груди —
варварский образ ее души: архаическая горгона с высунутым языком. Ее кольчужная
эгида вся украшена золотыми монистами, сексуальным даром Зевса Данае. Госпожа
Афина Климта — материалистическая городская богиня легкомысленной Вены
fin-de-siecle.
Прямо нападая на Рескина, Уистлер стал международным и общеизвестным
пропагандистом эстетизма. Его «Маленькая белая девочка» (1863) —
прерафаэлистская картина по духу и стилю, нависающее над викторианским салоном
романтическое видение. По иронии судьбы его самым известным произведением стала
работа «Этюд в серых и черных тонах» (1872), которой он, по-видимому, не
придавал особого значения, но которую воображение публики окрестило «Мать
Уистлера». Ее, созданную за год до «Моны Лизы» Патера, я выдвигаю в качестве еще
одного претендента на звание вампира позднего романтизма. Есть серьезная причина
неумирающей силы картины — вечное imago матери. Холодная, полумертвая мать
Уистлера отвращает лицо от своего потомства. Она Сфинкс, сидящий на кубах, как
каменный фараон, погребенный в гулком тронном зале декадентского застоя. Она
мумифицирована сухим викторианским этикетом, так же как набитое чучело матери из
«Психо». Устойчивая популярность произведений искусства всякий раз открывает
тайную поэзию архетипа. Вот «Мона Лиза» Уистлера. Дерзкое, остроумное название
пытается объективизировать мать и обуздать ее эмоциональную силу. Но тщетно.
Демоническое взрывает любое аполлоническое ограничение.
По недоразумению Эдварда Мунка чаще относят к грядущему экспрессионизму, а не к
современному ему декадансу. Его творчество обращается к позднеромантическим
темам сексуальных страхов, например в «Вампире». Его обнаженная «Мадонна»
напоминает Еву фон Штука бесстыдной демонстрацией спокойной женской власти.
Мужчина — робкий, голодный зародыш, трепещущий в глубине картины. Вдоль рамки
струится
638


сперма, не нашедшая куда излиться. Интересно, не речи ли Стриндберга вдохновили
«Мадонну»: «Все вы мне враги! Мать, не желающая меня, ибо боялась, что будет
рожать меня в муках, была врагом моим, не питала, как следовало, робкий зародыш
и едва не превратила меня в калеку!»10 Зародыш Мунка, угнетенный женским
величием, вновь возвращается в параноидальной и агорафобной картине «Крик»
(1895). Застывший на мосту истории над бездной природы безумный Пьеро —
безволосый гермафродит, умственно и физически убогий. Бердсли тоже делает
зародыш сексуальной личиной; он говорит об одном из своих полотен: «Маленькое
создание, вручающее шляпы, — это не дитя, а выживший недоносок»11. Зародыш —
крайний случай романтической регрессии. Шелли в своих пренатальных грезах
составляет себе счастливую компанию с кровосмесительным близнецом, но бесполый
зародыш Мунка страдает от нового холодного одиночества.
Бердсли, величайший художник декаданса, символ 1890-х годов, лилового
десятилетия. По другому поводу Шпенглер замечает: «Фиолетовый — это красный,
уступающий синему, цвет женщин, уже не способных рожать, и священников, давших
обет безбрачия»12. Холостой затворник Бердсли был монахом-порнографом, сводящим
цвета и объемы матери-природы к бесплодному белому и черному. Как Ките, он умер
от туберкулеза в двадцать пять лет. Его поразительно многочисленные работы по
разнообразию андрогинов вполне способны соперничать с двумя частями «Фауста»:
ангелы, прекрасные юноши, эфебы, евнухи, амазонки, мегеры, вампиры, мать-земля.
Он создает огромное, замкнутое в себе царство сексуальных личин. Эротические
умствования Бердсли — болезненная крайность саморефлексивности Руссо. Подобно
Уитмену и Жене, Бердсли оживляет свою сексуальную вселенную мастурбационным
принципом Хепри, египетского Перводвигателя. Маниакальное саморазмножение
искусства посягает на творческие силы природы.


Связанность Бердсли с французским рококо чересчур преувеличена. Он начинает как
ученик прерафаэлитов. У Берн-Джонса он берет спенсерианские заросли создающей
лоно природы, которую он переосмысляет как изысканный союз извращенных
сексуальных личин. Рококо — свежо и лирично. Острая линия Бердсли — жесткая
линия Блейка; он наследует демони-зированный аполлонизм модерна. У него
постоянно чувствуется близость хтонической опасности; чего не ведало рококо.
639
В знак почтения к Россетти и Берн-Джонсу черты Элизабет Сиддел принимают герои
Бердсли обоего пола. Вот ее губы на лице его раннего пышногрудого Гермафродита;
вот она в облике Венеры на фронтисписе «Венеры и Тангейзера» Суинберна; вот она
же в виде трех длинноволосых пажей на первом «Туалете Саломеи». Как странно:
Сиддел в образе Венеры выглядит точно так же, как Жаклин Кеннеди Онассис. Таким
образом, подобно прочим живым легендам, одна из самых известных женщин нашего
времени напоминает гермафродита. Сесиль Битон подтверждает это, отмечая «едва
заметные усики» и «большие руки и ступни» Джеки 13.



Половая принадлежность героев Бердсли всегда сомнительна. В серии «Саломея»
мужские и женские лица неразличимы. Гомосексуальные пары сливаются в
женственности. «Женщина Луны» — это полнолицый Оскар Уайльд. Д'Альбер у Готье
женственнее щеголеватого кавалера — мадемуазель де Мопен. Полуодетая дама в
«Графе Лавендере» элегантно щелкает своим хлыстом по голой спине
коленопреклоненного человека, чья голова застенчиво отрезана краем картины, а
каков пол этого пассивного участника, как обычно говорится в телевизионных
программах, остается только предполагать. Бриджит Брофи задается вопросом о том,
кто такие трансвеститки Бердсли: «пи-жонки», «женоподобные мужчины» или
«мужеподобные девицы, парни в юбках, бой-девицы»14. Уроды Бердсли — гномы,
карлики, зародыши, одутловатые безбородые евнухи, льстивые придворные
гермафродиты старого режима. Его андрогины — злобная насмешка истории и
наследственности. Они, как венерические цветки Гюисманса, представляют собой
зараженную флору поздних фаз культуры.
Ближе всего к самому Бердсли — истощенные придворные и назойливые юные содомиты.
Автопортрет изображает его хитрым эльфом, с вожделением выставляющим напоказ
фаллическое копье своей перьевой ручки. Он — такое же существо среднего рода,
как неземной Дэвид Боуи. О себе Бердсли сказал: «Кто родился евнухом, тот
останется евнухом». Ему нравилось наделять женщин фаллосом. Две версии
плоскогрудой Аталанты Суинберна, дающие ей искусственный пенис — охотничий лук
или стремительно летящую борзую, — вдохновлены, как мне кажется, змееполой
свирепой Афиной с картины Моро. Саломея носит воинский венец из клыков, шипов и
лунных серпов. Она кажется отчасти дикобразом, отчасти упрямым бараном, бодающим
Крестителя, который сжимается от страха
перед этим грозным видением. Она Venus Barbata — мое определение для обозначения
того типа ворчливой греховодницы, который воплотили Бетт Дэвис в фильме «Все о
Еве» и Элизабет Тейлор в фильме «Кто боится Вирджинии Вулф?».
640
Гермафродитов-гомункулов Бердсли порой не так-то просто опознать. Постоянно
повторяемая личина — грушеобразный мужчина с раздавшимися боками, ягодицами и
бедрами. Аббат с картины «Под холмом» — высокомерный денди в муфте, вывернувший
колени в недовольной позе. Женскую тучность у мужчины могут подчеркивать такие
нелепые костюмы, как мешковатые панталоны русских декадентов в «Золотом эскорте
дамы». Единственная обнаруженная мною аналогия — метафора шекспировского Терсита:
«Демон сладострастья своим жирным, толстым пальцем»* («Троил и Крессида» V, 7).
Пышнозадые мужчины Бердсли напоминают о веретенообразных икрах и раздувшейся
талии Венеры из Виллендорфа. Как если бы Великая мать слилась со своим
сыном-любовником. Сын принимает ее очертания, симпатически идентифицируя себя,
как кастрированные священники Кибелы, надевающие одежды богини. То, что
фигуристая мужская анатомия имеет женское происхождение, подтверждает экслибрис
Бердсли: голый гермафродит с толстыми ягодицами и рудиментарными сосками
просматривает книги.
Как ни парадоксально, но когда бы ни появлялась Великая мать в творчестве
Бердсли,. она неизменно омерзительна. Например, Иродиада — свиноглазая,
плосконосая вдова, напористо толкающая впереди себя грудь, как нос римской
галеры. Ее груди — испещренные венами растянутые пузыри. Танцующая Саломея
выпячивает бесформенный живот, так что мы вынуждены созерцать нечто, похожее на
деформированное превращение желудка в наружные половые органы. Ее соски торчат,
как алмазные булавки. Ее скрученная между бедер в фаллический жгут вуаль пенится
пузырьками оргазмической фантазии. В «Иоанне и Саломее» соски Саломеи — злые
цветы, а черный пупок-вульва покрыт завитками волос и отдаленно напоминает
насекомое. Императрица Мессалина — широкозадая британская торговка рыбой,
взбирающаяся со сжатыми кулаками вверх по лестнице. Торчащие в разные стороны
груди перегружены проколотыми сосками. В «Толстухе», сатирическом изображении
жены Уистлера, кофейный столик подпирает
-----------------------
*
Пер. А. Федорова.
641
огромную
грудь, похожую на мешок с пшеницей и давящую зрителя своим пустым пространством.
Вагнеровская «Эрда» — усталая, тупая мать-земля, стесненная душной, черной
мантией волос, тяжело струящихся в топкую почву. «Вагнеритки» — капелла Медичи
Бердсли: публика, состоящая из мегер с широкими плечами и мужскими бицепсами,
заполняет клаустрофобный храм искусства.
Бердсли связывает зрелую женщину с отвратительным излишеством плоти. Женщина —
месиво, первоматерия. Византийская плоскость его картин загоняет плодородную
женщину в два измерения, но она и их приводит в беспорядок своей неустойчивой
пухлостью. Совершенная линия Бердсли — одна из самых текучих линий в истории
искусства. Это патеровская текучесть, струящаяся по лишенной глубин поверхности,
которая скрывает женский внутренний мир. Вновь эстетизм искусно обходит топкие
глубины хтонического жидкого царства. В «Черной накидке» (1893), берущей из «Саломеи»
Уайльда лишь сексуальную иерархию пьесы, женское тело полностью уничтожено. Эта
дама в распухшем, как улей, парике — вампир в обличий летучей мыши, царица ночи
в странном одеянии неопределенной эпохи. Может быть, это внеисторическая Долорес
Суинберна, у которой выдался свободный вечерок? Ее замысловатое, плотно
облегающее платье с зиккуратом эполетов и волочащимся шлейфом, похожим на блин,
кажется, вполне способно само собой взмыть в воздух. Его смелые формы скрывают
половые отличия. С тем же успехом это платье мог бы надеть и мужчина, так как
оно маскирует тело. В потрясающих образах Бердсли присутствует скрытый
трансвестизм. Богине на фронтисписе «Венеры и Тангейзера» не хватает груди. Ее
изящное платье без бретелек открывает плечи, несколько широковатые для женщины.
Как Флора Боттичелли, она похожа на юношу, переодевшегося в платье
противоположного пола для костюмированного бала.
Я отмечала, что трансвестизм гораздо чаще встречается среди мужчин из-за того,
что берет свое начало в самых ранних отношениях матери и сына. До произошедшего
недавнего смещения сексуальных ролей именно властная женщина в женском платье
маячила в глубине сознания каждого ребенка. «Ребенок в кровати матери»,
возможно, единственная патетическая вещь холодного и циничного Бердсли. Шутовски
одетый мальчик в облаке по-блейковски белых волос приближается к спящей матери,
наделенной одним из
642
деформированных
женских лиц Бердсли — заплывшие глаза, двойной подбородок, боксерский разбитый
нос. Эта спальня — храм богини-матери, чей алтарь виднеется на заднем плане:
длинное зеркало, обрамленное двумя высокими церковными свечами на туалетных
столиках. Не создал ли Бердсли свою версию молитвенного служения маленького сына
надменной Бекки Шарп из романа Теккерея? Бледный ребенок Бердсли, автопортрет
художника, мал, вял и невесом. Но мать в черном панцире тяжелых волос —
разрастание гноящейся материи. Здесь особенно очевидно, что плоский графический
стиль Бердсли — очищение от гнетущих женских объемов.
Бердсли считает женскую грудь агрессивным оружием, и это — часть его критики
вечной мании величия женской власти. Мы припоминаем прикрытые острия сосков у
мегер Бодлера или соски, превращающиеся в пронзительные глаза вампира на груди
суженой Шелли. Бердсли заимствует у Моро многогрудую Артемиду Эфесскую и
использует ее как символ животной природы рожающей женщины. Его амбивалентное
отношение к матери очевидно в его Мадонне в духе Суинберна. Соблазнительная Дева
в «Вознесении святой Розы из Лимы» — вовсе не alma mater. Ее усаженная
шипами корона в стиле испанского барокко превращает ее в ощетинившуюся черную
кошку. Неприличный жест — прижавшись к святой Розе, она делает ей непристойное
предложение — восходит к Леонардо. Страстно отвечающая на ласки праведница —
лесбийский Ганимед. Белое невинное дитя возносит к небесам вздымающаяся от
ветра огромная черная накидка Девы. Бердсли повторит эту композицию на суше в
«Рождественской открытке»: черная Мадонна, щеголяющая в непринужденной, домашней
шипастой короне, баюкает на коленях ребенка. Вся картина от обступающего леса,
в котором боттичеллиевские сосны страдают от бурного разрастания, до скорбного
одеяния Девы — окаймленного горностаями черного бархата с цветами серебряной
филиграни — кошмарно черна. Тонущее белое дитя — нежная Персефона в недрах ада.
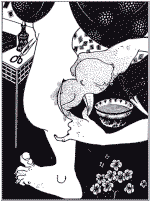
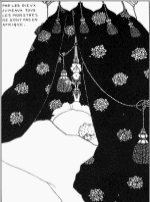
Теперь мы можем истолковать любопытный автопортрет Бердсли, нарисовавшего в
«Желтой книге» самого себя в кровати. Я считаю его изощренной
абстрактной версией его рисунков Мадонны. Мальчик в белом тюрбане больного
выглядывает из-под своего одеяла. Он поглощен вздымающимся черным балдахином,
расшитым розами. Образность, конечно, заимствована у Пьеро делла Франчески,
изобразившего в «Сне Константина»
643
спящего в походной палатке с белой феской на голове императора.
Единственная открыто присутствующая на картине женщина — распутная кариатида с
копытами на столбике кровати. Но дающий пристанище мальчику-художнику полог —
черное тело материнской природы, украшенное обезглавленными цветками и связанное канатцами пуповины с кисточками на конце. Таково низвержение Бердсли в Мальстрем,
в утробу архаической ночи. Возвращенный в детство мужчина погребен в лоне
матери-природы — крайняя степень декадентской закрытости. Природа дает и природа
отнимает, опуская свой занавес над больным чахоткой сыном.
1 Colette S. G. The Pure and the Impure // Earthly Paradise / Ed.: Phelps R. N.
Y., 1966. P. 384.
2 Jung C. G. Collected Works. Vol. 5. Frontispiece. P. 428
3 Цит. по: Nicoll J. The Pre-Raphaelites. L., 1970. P. 61. Основной источник
репродукций картин Россетти: Surtees V. The Paintings and Drawings of Dante
Gabriel Rossetti. A Catalogue Raisonne. 2 vols. Oxford, 1971.
4 Pre-Raphaelitism and the Pre-Raphaelite Brotherhood. N. Y., 1914. Vol. 1. P.
248.
5 Sytnons A. Dramatis Personae. Indianapolis, 1923. P. 130—131.
6 Berg H. van den. Changing Nature of Man. P. 185.
7 Harrison M., Waters B. Burne-Jones. N. Y., 1973. P. 67.
8 Цит. по: Jullian Ph. Dreamers of Decadance / Trl.: Baldick R. N. Y., 1971. P.
43.
9 Huysmans J.-K. Certains. P. 19; Idem. L'Art Moderne. P., 1902. P. 154.
10 StrindbergA. The Father (1887) // Six Plays of Strindberg / Trl.: Sprigge E.
Garden City, N. Y., 1955. P. 54. [Пер. Е. Суриц цит. по: Стриндберг А. Отец
//Стриндберг А. Избр. произв. М.,1986. Т.1.С. 477.}
11 Цит. по: Weintraub S. Beardsley. N. Y., 1967. P. 131.
12 Spengler О. Decline of the West. Vol. 1. P. 246.
13 Beaton С Self-Portrait with Friends. The Selected Diaries of Cecil Beaton /
Ed.: Buckle R. N. Y., 1979. P. 341.
14 Brophy B. Black and White. A Portrait of Aubrey Beardsley. N. Y., 1970. P.
38.
|
|