|
Автомат
На этой же странице:
M.A. Куличихина
Тело-автомат в новелле Э.Т.А. Гофмана «Песочный человек»
Автомат - греч.
αὐτόματος, сам собою
движущийся, сам собою случающийся,
случайный. У греков - фигура с механическим устройством
внутри, подражающая движениям или голосу того существа,
которое изображает; игрушка. Для приведения автомата в действие использовался
песок или вода, напр. в автомате "певчие птицы", которые смолкали, как
только сова устремляла на них свой взгляд (Герон
Александрийский, "Пневматика" 1,16).
Высшим достижением искусства изготовления А. Герон считал
театр автоматов (Autom. IV,4). Автоматы-игрушки хорошо известны и в Новое время. Deus ex machina (бог из машины) -
драматургический прием, применявшийся в античной трагедии:
запутанная интрига получала неожиданное разрешение во
вмешательстве бога, который посредством механического
приспособления появлялся среди действующих лиц, раскрывал
неизвестные обстоятельства и предсказывал будущее.



Свидетельства об участии автоматов в праздничных шествиях и
религиозных процессиях указывают на древнейшее происхождение
этого культурного феномена. Во время празднеств
богов и героев представляли как живые актеры, так и
статуи-автоматы, передвигавшиеся на колесницах и в паланкинах.
Но и в храмах статичность богов не была
абсолютной (ср.
подвижность Командора
и Медного всадника:
4,145-180); на то, что статуи богов осознавались
"живыми" указывают ритуалы их облачения в платье,
украшение гирляндами и драгоценностями; храмовые счета,
известные, напр., по делосским надписям III в. до н.э. сообщают о тратах на благовония для
статуй. Ср. "звучащие" надписи на статуях (2,45
сл.)
Αὐτοματία - богиня Случая, "случайного", "само собою
случающегося". Более известное имя богини Случая - Τύχη.
"Безысходно-, тягостно-фатальная
судьба Эдипа весьма часто фигурирует у
Софокла как именно изменчивая и
непредсказуемая "тюха"
(3,321). Сам Эдип говорит: "Я сын
Τύχη" (Эдип-царь,1080.)
Когда мы
наблюдаем за выступлением иллюзиониста, уже ничто не указывает
на то, что в роли фокусника выступает прежний демиург. "Нынешняя
функция "метаморфоз" чисто развлекательная; ни у
кого они не вызывают ассоциаций,
скажем с космогоническим сотворением человека из куска глины"
(1,41). На самом деле фокусу "одно превращается в другое"
предшествуют мифы о превращениях (и соответствующие действа),
трактующие сакральное знание: о происхождении, скажем, земли
из шкуры оленя или племени из зубов дракона. В реквизит
фокусника точно так, как и в миф не могут попасть любые,
случайные вещи, однако для участника ритуала, рассказчик
мифа о превращениях является именно воплощением судьбы-случая,
"необходимой случайности"(3,322).
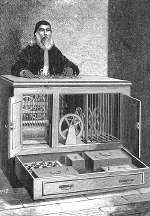


В представлениях чешских кукольных мастеров
показ вещей - дивертисменты, красноречиво с точки зрения мифолога
именуются "метаморфозами": пляшущие животные или вещи на глазах у
зрителей превращаются в другие вещи или человека. При этом титул
верховного жреца Элевсинских мистерий - гиерофант, "показыватель
святынь", а созерцание (как "сверхвидение", ἐποπτεία ) украшенных статуй богов
и жертвенника за открывшимися дверями - последняя ступень
посвящения (в эпизоде возвращения Одиссея на Итаку
(Од. XIII) номинация Афины не
есть простое перечисление топонимов: богиня "рассказывает" и "показывает землю" Одиссею,
не узнавшему родную Итаку, забывшему свое имя и спавшему до встречи
с ней сном с "безмолвною
смертию сходным"; созерцание здесь означает
ἐποπτεία, а рассказ
есть метаморфоза, превращение мертвого в живое; примечательно, что
оптическим центром этого действа является маслина, священное дерево
Афины, древо Судьбы).
Современные понятия спектакль,
представление восходят к греческому слову
ὄψις
(опсис), означавшему не только то, что
реально видимо, представлено взгляду, но и то, что можно было
увидеть в особых обстоятельствах, нпр., во время встречи с
божеством, в видении, в сновидении (греки
никогда не говорили: "мне приснилось нечто" - сон являлся
спящему как божество), во время театрального представления.
ССЫЛКИ
1 Брагинская Н.В.
"Театр изображений". О неклассических зрелищных формах в
античности.//Театральное пространство.
Материалы науч. конф. ГМИИ им. А.С.Пушкина (1978 г.).
М.,1979.
2 Брагинская Н.В.
Надпись и изображение в греческой вазописи//Культура и искусство античного мира. Материалы науч. конф.
ГМИИ им.А.С.Пушкина(1979г.).М.,1980.
3 Горан В.П.
Древнегреческая мифологема судьбы. Новосибирск, 1990.
4 Якобсон Р. Статуя в
поэтической мифологии Пушкина//Якобсон Р.
Работы по поэтике. М.,1987.


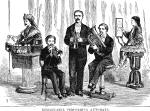
M.A. Куличихина
Тело-автомат в новелле Э.Т.А. Гофмана «Песочный человек»
Филологические этюды: Сб. науч. ст. молодых ученых: В 3-х ч. -
Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2008. Вып. 11, ч. II, с. 26-29
Образы человека-автомата (Menschenautomaten) в литературе особенно актуальны
сейчас, в эпоху развития искусственного интеллекта и клонирования. Нас
интересует тело-автомат в произведениях поздних немецких романтиков, где оно
стало доминировать среди прочих концепций телесности.
26
М. Фуко показал, что по мере становления буржуазных отношений в 17-18 вв.
вырабатывались новые способы контроля над личностью в виде новых дисциплинарных
практик тела. «В классический век произошло открытие тела как объекта и мишени
власти. <...> Великая книга о Человеке-машине создавалась одновременно в двух
регистрах: анатомо-метафизическом - первые страницы были написаны Декартом,
последующие медиками и философами; и технико-политическом <...»> [Фуко, 1999. С.
198-199]. Новая стратегия власти - «не рассматривать тело в массе, в общих
чертах, как если бы оно было неразделимой единицей, а прорабатывать его в
деталях, подвергать его самому тонкому принуждению, обеспечивать его захват на
уровне самой механики - движений, жестов, положений, быстроты: бесконечно малая
власть над активным телом» [Там же. С. 200].

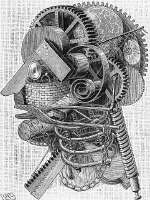
В эпоху романтизма концепция тела-машины находит воплощение в ряде литературных
произведений. Наглядно она звучит в «страшных» новеллах Гофмана, в знаменитом
«Песочном человеке» (опубликован в 1817 г.).
Ранее, в 1814 г., в новелле «Автоматы» Гофман устами героев четко обозначает
свою позицию по отношению к человекоподобным машинам: «Мне до глубины души
противны механические фигуры, эти памятники то ли омертвевшей жизни, то ли
ожившей смерти. Они ведь не воспроизводят человека, а издевательски вторят ему
<...> Я уверен, что большинство людей разделяют со мной это чувство. При виде
таких фигур всем не по себе» [Гофман, 1990. С. 188]. Особенное возмущение
Гофмана вызывает то, что машины - такие, как реальные автоматы Вокансона (Vaucanson)
и швейцарской семьи Жаке-Дроз (Jaquet-Droz) - вторгаются в духовную, творческую
сферу, в сферу музыки. «Соединить живого человека с мертвыми фигурами, которые
только копируют форму и движения человека <...> В этом для меня заключено
что-то тяжкое, зловещее, даже совсем жуткое. Воображаю себе, что можно, встроив
внутрь фигур искусный механизм, научить их ловко и быстро танцевать,
вот и пусть
они исполняют тогда танец вместе с живыми людьми <...>, так чтобы живой танцор
подхватывал деревянную танцовщицу и носился с ней по залу - разве ты выдержал бы
такое зрелище хотя бы одну минуту? А тем более музыку, исполняемую машинами. -
есть ли что более безбожное, гадкое? <...> Стремление механиков все точнee и
точнее копировать и заменять механическими приспособлениями органы человеческого
тела, способные производить музыкальные звуки, - это в моих глазах открытая
война против принципа духовности. Однако духовность одерживает все более
блестящие победы по мере того, как против нее восстают эти мнимые, кажущиеся
силы» [Там же. С. 201 -202].
В этом отрывке уже угадывается образ Олимпии, но здесь речь идет об успешном
копировании человеческого тела, а не его подмене. Автоматы профессора X. и
говорящий турок в «Автоматах» изначально представляются как машины, Олимпия же
выступает в роли человека. Если в «Автоматах» Гофман еще верит в победу
духовного начала, то в «Песочном человеке» происходит крах этой веры, поражение
духовности.
Герой новеллы влюбляется в механическую куклу Олимпию. Натанаэль слеп к тому,
что замечают его товарищи: «Ее можно было почесть красавицей, когда бы ее взор
не был так безжизнен. В ее игре, в ее пении приметен неприятно правильный,
бездушный такт поющей машины. Нам сделалось не по себе от присутствия этой
Олимпии, и мы, право, не хотели иметь с нею дела, нам все казалось, будто она
только поступает, как живое существо» [Гофман, 1989. С. 32-36]. Образ Олимпии
строится на романтическом контрасте внешнего совершенства тела и пугающей
безжизненности. Контраст между красотой и недостатком духовности в возлюбленной
уже становился предметом изображения в романтической литературе. У Арнима в
«Изабелле
27
Египетской» действует голем - «искусственный человек, сделанная женщина,
механическая Ева, всякому послушная и всякому доступная, абстракция пола»
[Берковский, 2001. С. 309]. Гофман возводит противопоставление живого человека и
человекообразного автомата на новую ступень: если у Арнима живая девушка
привлекательнее, одухотворенней и несоизмеримо выше своего телесного двойника,
то Клара не может победить Олимпию, механическая кукла привлекательнее живого
человека. В то время как человеческое тело в современном обществе все больше
подчиняется законам механики, автоматы приобретают все больше «человеческих»
качеств и умений, стираются грани между человеком и машиной.
Из творения мастера, достойного восхищения - или негодования - человекообразная
машина становится товаром массового производства, государство - фабрикой
автоматов, в которой не осталось места для духовного. Неудивительно, что автомат
вольготно чувствует себя в социуме - он является его порождением. Ф.П. Федоров
верно замечает: «Олимпия - это не только издевательство над обществом, но и
лакмусовая бумажка общества; она проявляет его механистический характер; она не
распознается, потому что оказывается среди таких же, как она, автоматов; диалог
Олимпии с обществом -диалог однотипных существ, диалог механизмов» [Федоров,
2004. С. 240].
В позднем романтизме отражен перелом, произошедший в жизни тела: из
индивидуального явления оно становится общественной собственностью, предметом
обладания и объектом власти. За куклу Олимпию борются Спаланцани и Коппола, но и
тело Натанаэля - предмет спора между его отцом и адвокатом Коппелиусом (сцена из
детства героя зеркально отражает эпизод с Олимпией).
Характерно, что автомат чаще всего воплощается именно как женское тело.
Романтиков глубоко волновал вопрос о роли женщины в социуме. Жизнь женщины,
точнее, вымуштрованного воспитанием и обществом женского тела, предельно
схематизируется и механизируется, лишается самостоятельности и индивидуатьности.
Предназначение женщины (любовь, семья, деторождение, воспитание) подменяется ее
более мелкими и потому легче воспроизводимыми функциями. Разочарование поздних
романтиков в единственной романтической «настоящей» любви, о котором пишет
Жирмунский, приводит к тому, что романтики отворачиваются от живых -
несовершенных - женщин и выбирают автоматы. Любовь к автоматам имеет под собой
глубокую психологическую основу. Повышенное внимание к собственному внутреннему
миру играет злую шутку с романтиками - Натанаэль не замечает, что «прекрасная
душа Олимпии» - лишь проекция его чувств и желаний. Как пишет немецкий
исследователь Д. Кремер, «блуждающий мужской взгляд подыскивает себе мертвый
предмет как плоскость проекции самого себя. Немой автомат лишь воспринимает
слова и рефлексы мужчины и к тому же лживо уверяет его, что тот наконец-то нашел
свое отчужденное женское Alter ego» [Kremer, 1999. S. 83. Здесь и далее перевод
осуществлен мной - М.К.].
Гюнтер Гримм подчеркивает тендерную специфику при создании искусственного
человека: «Желание самому создать человека, как и желание летать, - это изначально свойственная человечеству мечта. Но если желание летать не зависит
от пола, то желание создать человека кажется специфично мужским. Мужчины
сублимируют свой органический дефицит. Женщины могут рожать, а мужчины - только
в фантазиях или с помощью техники» [Grimm].
Поэтому творцы механического тела - мужчины. В «Песочном человеке» в
«сотворении» Олимпии принимают участие профессор-натуралист Спаланцани и
«талантливый механик» Коппола. Имя Коппелиуса можно возвести к немецкому глаголу
kорpeln - собирать, стыковать, соединять, что подчеркивает механистичный
характер его «творчества». Образ Копполы представляет собой негативный вариант
центрального в
28
немецком романтизме образа художника-творца, поскольку это творец механизмов.
Песочник еще в детстве пугает героя: « "ну а все же мы наведем ревизию, как там
у него прилажены руки и ноги". И вот он ... принялся вертеть мои руки и ноги, то
выкручивая их, то вправляя. «Ага, это вот не больно ладно ходит! А эта -
хорошо...» [Гофман, 1989. С. 37].
В Коппелиусе слиты черты современного ученого-экспериментатора и злого колдуна
из волшебной сказки. Именно он продает Натанаэлю подзорную трубу, прибор,
который искажает его зрение и восприятие настолько, что герой не может отличить
автомат от живого человека.
Так Натанаэль вовлекается в процесс создания куклы. Именно он дает ей то, чего
не смогли добиться ни Спаланцани, ни Коппола: в своем воображении герой наделяет
Олимпию жизненной силой, проецируя свое «Я» на немую куклу он одухотворяет ее.
Глаза, оптические приборы, зрение и перспектива - важнейшие элементы мотивной
структуры новеллы, и в этом ряду стоит столь важный для романтизма мотив зеркала,
в котором герой имеет возможность взглянуть на себя как бы с точки зрения
другого. Олимпия - ничто, но именно ее пустота, отсутствие собственной личности
позволяет ей быть отражением Натанаэля, она - его желанный и недоступный
двойник, женское эго. Разоблачение Олимпии, ее «гибель» - это и разоблачение
Натанаэля, осознание механистической природы тела вообще, что приводит к
трагическому финалу. Натанаэль остается со страшным подозрением (или
прозрением?), отравляющим разум и душу: а что, если живые люди тоже автоматы?
Поэтому возлюбленная Клара кажется Натаниэлю «проклятым, бездушным автоматом»,
«куколкой», он погибает, а Коппола продолжает странствовать по этому свету,
навязывая людям свои очки и с ними - новый механистический взгляд на тело и на
общество.
Губительна не машина сама по себе, но ее одухотворение, очеловечивание, подмена
человека и (мнимое) превосходство. Страшно осознание, что человеческое тело -
это
автомат, организованная, четко выполняющая свои функции материя, что стираются
критерии различия между человеком и машиной.
Г. Гримм отмечает: «В то время как механики и публика не уставали восхищаться
(автоматами), литература оказалась прозорливее. Она вскрывает тайные страхи,
которые охватывают человека в присутствии людей-машин, она указывает на
опасности, грозящие его душевному состоянию. В первую очередь речь идет о
проблеме идентичности. Если автоматы похожи на людей до такой степени, что их
можно перепутать, как может человек распознать своего визави, как он может быть
уверен в самом себе? Э.Т.А. Гофман изобразил психическое смятение, которое
автомат может вызвать в человеке, во многих новеллах, (но) убедительнее всего
<...> в "Песочном человеке"» [Grimm].
Внимание позднего романтизма к телу-автомату, страхи и прозрения романтиков
выводят нас на проблему идентичности, и обширная библиография последних лет,
посвященная искусственному человеку в литературе, доказывает, что эта проблема
особенно актуальна сегодня.
29
Литература
Grimm Giinter. «Elektronische Hirne». Zur literarischen Genese des Androiden
(17.01.2005) //
http://www.goethezeitportal.de/
Kremer Detlef. E.T.A. Hoffmann. Erzahlungen und Romane. Berlin, 1999.
Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. СПб,
2001
Гофман Э.Т.А. Автомат
// Гофман Э.Т.А.
Крейслериана. Новеллы. М., 1990
Гофман Э.Т.А. Песочный человек
// Сказки немецких
писателей. Л., 1989
Федоров Ф.П. Художественный мир немецкого
романтизма: Структура и семантика. М., 2004
Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы.
М., 1999
|
|